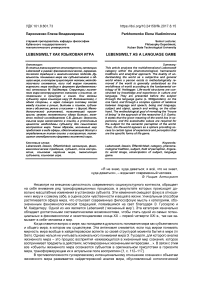Lebenswelt как языковая игра
Автор: Пархоменко Елена Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется многомерность категории Lebenswelt в рамках феноменологической, герменевтической традиций и аналитического подхода. Дуальность понимания мира как субъективного и общего мира, в котором существует человек, методологически снимается, если под миром понимать мирность мира вообще в формате фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. Структуры жизненного мира конструируются знаниями и опытом, заложенными в культуре и языке. Они явлены субъекту через языковую игру (Л. Витгенштейн), с одной стороны, и через сложную систему связей между языком и речью, бытием и языком, субъектом и объектом, речью и письмом - с другой. Методологической установкой, позволяющей приоткрыть занавес потаенности «дома бытия», является подход исследователя С.В. Данько: данность смысла мира заключается в опыте, а устойчивые ценности необходимы субъекту для смыслового восприятия мира. Таким образом, жизненный мир предстает в виде сферы, обеспечивающей доступ к определенным типам опыта и восприятия, являющимся своеобразными формами жизненной игры.
Категория, феноменологическая традиция, субъект, поле восприятия, языковая картина мира, эмансипация субъекта, языковая игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14941380
IDR: 14941380 | УДК: 101.8:801.73 | DOI: 10.24158/fik.2017.8.15
Текст научной статьи Lebenswelt как языковая игра
«Я не знаю, куда деваться; я всё, что не знает, куда деваться», – вздыхает современный человек.
Ф. Ницше. Антихрист
Несмотря на внешнюю целостность современного социокультурного контекста, обращает на себя внимание ряд трансформационных процессов, в результате которых происходят довольно масштабные изменения в установках субъекта. Эти изменения смещают фокус в отношении к миру и к самому себе, в оценке роли чувственности и вещей в жизни. Уникальным способом растягивается сфера мира, что отсылает современную философскую мысль к категориям, обозначенным феноменологической традицией, появившимся на свет благодаря Э. Гуссерлю и М. Хайдеггеру. Одной из них является Lebenswelt (‘жизненный мир’). Эта категория изначально обладает достаточными систематическими возможностями, чтобы стать одной из самых потенциальных в феноменологии и экзистенциализме конца ХХ – первой четверти ХХI в., так как замыкает в себе человека и мир.
Когда ставится вопрос о мире, мы попадаем в дуальность понимания мира как субъективного и общего мира, в котором мы существуем. Эта антиномия снимается, если под миром понимать мирность мира вообще в хайдеггеровском аспекте со своей структурой момента бытия в мире (in Sein). Однако нельзя не учитывать изначального понимания мира Э. Гуссерля, для которого анализ жизненного мира – это процесс восприятия «вживающегося в жизненный мир сознания, которое воспринимает предметы в действиях, мотивированных жизненными интересами…». В связи с этим все «объекты жизненного мира осознаются субъектом в оригинальном присутствии в горизонте мира, трансформирующем их и актуальное поле восприятия» [1, с. 112–117].
В противоположности гуссерлевскому интенциональному отношению сознания к объектам жизненного мира развивается хайдеггеровский анализ мира, обусловленный онтологической разницей мира и внутримирового. Ключевым аспектом данной герменевтической стратегии является положение о наличии слоя сподручного, обладающего характером отсылки. Как средство сущее (встречается) показывает себя вот-бытию в качестве сподручного, бытийная структура которого имеет характер онтологической отсылки от чего-либо к чему-либо [2, с. 119–126].
В то же время феноменология отмечает факт потаенности мира как его изначальное свойство, что является одной из проблем современной эпистемологии, по-разному разрешаемой исследователями.
К. Хельд, понимая под «жизненным миром» также взаимосвязь отсылок, возникающих при повседневных инструментальных действиях субъекта, отмечает, что беспокойство является их основополагающим признаком. «Если предметные средства в процессе исполнения инструментальных действий служат нам хорошо, они остаются незаметными и как таковые не проявляются. Возникающая помеха вызывает стремление ее устранить, при этом мир становится видимым, но только на некоторое время» [3, с. 42].
Вследствие этого и проблема сокрытости мира решается К. Хельдом через применение феноменологического метода (всякая определенность сущего сводится к способу его явления для человека) [4, с. 40–41]. Это обстоятельство возвращает нас к мысли М. Хайдеггера о том, что любой вопрос о мире – это вопрос о бытии. А если, согласно Ж. Деррида, «бытие говорит повсюду и всегда через любой язык» [5, с. 51], вполне понятен и подход к жизненному миру как к «обыденному, естественному языку, обеспечивающему коммуникацию между людьми» [6].
В этом смысле языковая картина мира представляет собой зеркало мира и бытия, а философия уже не первое столетие пытается проникнуть в связь языка и бытия. Язык не только передает структуру мышления, но и показывает сокрытость и непознанность бытия, представляя собой многослойное образование и эпистемологическую дуальность.
С одной стороны, взаимоотношение слова и мира, слова и мысли составляет форму жизненной игры. Л. Витгенштейн пишет об этом следующее: язык есть деятельность, форма жизненной игры , где правила не заданы изначально, а формируются в сообществе. То есть значение слов определяется их употреблением , в процессе которого и происходит «высказывание себя как сущее через речь» [7].
С другой стороны, взаимоотношения мысли и слова можно представить как сложную систему связей между языком и речью, бытием и языком, субъектом и объектом, речью и письмом и т. д. Тогда с определением основных форм мысли, действующих в режиме диалогического общения (концептов), которые связывают сферы бытия и мысли в речи, становится возможным выявление особенностей их соотнесенности и использования, ведущих к определению смысла, так как человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять себя и переработать мир вещей. «Человек живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает (herausspinnt) язык изнутри себя, он вплетает (einspinnt) себя в него» [8].
Воспринимать мир языка как устойчивую форму – значит совершить герменевтическую ошибку. Язык не подогнан под какие-то смыслы, о чем нас предупреждал Л. Витгенштейн. Смыслы существуют в трансцендентной реальности, поэтому философию до́лжно понимать как «рефлексию над “значением” или “смыслом” языковых выражений» [9, с. 239].
Данный исследовательский шаг ставит вопрос о наличии методологической установки, позволяющей приоткрыть занавес потаенности «дома бытия». Одной из таких стратегий является подход исследователя С.В. Данько: отталкиваясь от понимания мира как самого по себе мистического факта («субстанции мира» сами по себе немыслимы), данность смысла мира заключается в опыте , который Л. Витгенштейн «считает сверхъестественным и абсолютным», в то время как «я» – это «граница, а не часть мира» [10]. Факты рассыпаются в вариантах возможностей, тогда как смыслы и ценности обладают необходимостью (устойчивы), поэтому субъекту всегда нужен «ценностный смысловой клей» для восприятия мира.
Эта стратегия переводит фокус исследования в плоскость Öffentlichkeit Ю. Хабермаса, открывая новую герменевтическую дверь.
Ю. Хабермас, отталкиваясь от понятия «Lebenswelt», убеждает нас в том, что структуры жизненного мира устанавливаются знаниями и опытом , заложенными в культуре и языке. При этом каждая культура имеет свою определенную языковую структуру, которая служит своего рода матрицей для мышления ее представителей, так как язык, характерный для каждой культуры, формируется в соответствии с теми проблемами адаптации, с которыми сталкиваются ее представители.
Удивительно точен Ф. Ницше в своем видении языка, подчеркивая значение опыта и правил коммуникации в рефлексии над его смыслом: «Чтобы понимать друг друга, еще недостаточно употреблять одинаковые слова: нужно употреблять одинаковые слова для обозначения внутренних переживаний одного рода, нужно в конце концов иметь общий опыт друг с другом» [11].
Мысль Ф. Ницше находит выражение в ряде исследований российских ученых.
Л.В. Корсакова исследует спектр средств языка художественной литературы и выявляет механизмы, с помощью которых возможно раскрытие внутреннего мира субъекта [12]. В.В. Долгоруков в своем исследовании также отмечает роль коллективного опыта в выстраивании диалога: «Правила коммуникации обусловлены тем, что диалог представляет собой совместную деятельность, участники которой разделяют общие цели». Исходя из этого, Г.П. Грайс формулирует принцип кооперации: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [13].
С.А. Лишаев проводит исследование соотнесения вещи и субъекта в онтологическом измерении, где опыт общения с вещами рассматривается в жизненно-практическом аспекте, способный изменить траекторию экзистенции человека [14].
Таким образом, жизненный мир предстает перед человеком в виде сферы, обеспечивающей доступ к определенным типам опыта и восприятия.
У каждого из нас есть опыт пребывания в жизненном мире. Мир есть комбинация опытов, данная через бесконечное разнообразие языковых игр. Эмансипация субъекта происходит под воздействием испытывания своей внутренней сферы провокациями самого мира, выраженными в со-бытиях с другим .
Исследование категории Lebenswelt в современном философском поле, располагающем фундаментальной методологической базой, может быть представлено как система отсылок к категориям другого , языковой картины мира, субъекта, языковой игры, опыта и осуществлено в рамках так называемой хайдеггеровской единой двоякости: с одной стороны, истолковывания древних (дать им высказаться), а с другой стороны, максимально широко и глубоко истолковывающего вопрошания на основе Dasein [15, с. 18].
На наш взгляд, это делает возможным генерирование новых возможностей осознающего субъекта, формирование иных типов коммуникации. Перенос тяжести на опыт субъекта заставляет человека агрессивнее переосмысливать жизненный мир, открывая реальность своей экзистенции. Опыт как нечто непосредственное и могущественное помогает осмыслить фундаментальные онтологические структуры человеческого бытия в мире, без которого невозможно понимание жизненного мира.
Ссылки:
-
1. Херрманн Ф.-В. фон. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля : пер. с нем. Минск, 2000. 192 с.
-
2. Там же. С. 119–126.
-
3. Хельд К. Понятие экзистенции и политический мир // Вопросы философии. 1997. № 4. С. 38–49.
-
4. Там же. С. 40–41.
-
5. Деррида Ж. Поля философии. М., 2012.
-
6. Eden T. Lebenswelt und Sprache: eine Studie zu Husserl, Quine und Wittgenstein. München, 1999 ; Eley L. Sprache als Sprechakt. Die phänomenologische Theorie der Bedeutungsintentionen und –erfüllung und die sprachphilosophische The-orie der Sprechakte (J.R. Searle) // Aspekte und Probleme der Sprachphilosophie / hrsg. von J. Simon. Freiburg ; München, 1974. S. 137–183.
-
7. Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1967. S. 148.
-
8. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000.
-
9. Апель К.-О. Трансформация философии / пер. с нем. В. Куренной, Б. Скуратов. М., 2001. 344 с.
-
10. Данько С.В. Смысл жизни и философское «я» в ракурсе исследований Л. Витгенштейна [Электронный ресурс] // Vox :
-
11. Nietzsche F. Werke. Kritische Gesamtausgabe / hrgs. von G. Golli und M. Montinari. Berlin ; N. Y., 1967. Abt. 6. Bd. 2. S. 231.
-
12. Корсакова Л.В. Художественные средства осуществления смысла в философском дискурсе : автореф. дис. … канд. филос. наук. Краснодар, 2005. 23 с.
-
13. Долгоруков В.В. Логико-эпистемологический статус прагматических ограничений: теоретико-игровой подход : авто-реф. дис. … канд. филос. наук. М., 2015. 23 с.
-
14. Лишаев С.А. Метафизика простых вещей (простая вещь как место сборки мира и человека) / / Сила простых вещей : сб. ст. / под ред. С.А. Лишаева. СПб., 2014. С. 20–33.
-
15. Хайдеггер М. Размышления II–IV (Черные тетради 1931–1938) / пер. с нем. А.Б. Григорьева. М., 2016. 584 с.
электрон. филос. журн. 2012. № 13. С. 164–176. URL: (дата обращения: 04.08.2017).
Список литературы Lebenswelt как языковая игра
- Херрманн Ф.-В. фон. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля: пер. с нем. Минск, 2000. 192 с.
- Хельд К. Понятие экзистенции и политический мир//Вопросы философии. 1997. № 4. С. 38-49.
- Деррида Ж. Поля философии. М., 2012.
- Eden T. Lebenswelt und Sprache: eine Studie zu Husserl, Quine und Wittgenstein. München, 1999.
- Eley L. Sprache als Sprechakt. Die phänomenologische Theorie der Bedeutungsintentionen und -erfüllung und die sprachphilosophische Theorie der Sprechakte (J.R. Searle)//Aspekte und Probleme der Sprachphilosophie/hrsg. von J. Simon. Freiburg; München, 1974. S. 137-183.
- Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1967. S. 148.
- Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000.
- Апель К.-О. Трансформация философии/пер. с нем. В. Куренной, Б. Скуратов. М., 2001. 344 с.
- Данько С.В. Смысл жизни и философское «я» в ракурсе исследований Л. Витгенштейна //Vox: электрон. филос. журн. 2012. № 13. С. 164-176. URL: https://vox-journal.org/content/Vox13-DankoS.pdf (дата обращения: 04.08.2017).
- Nietzsche F. Werke. Kritische Gesamtausgabe/hrgs. von G. Golli und M. Montinari. Berlin; N. Y., 1967. Abt. 6. Bd. 2. S. 231.
- Корсакова Л.В. Художественные средства осуществления смысла в философском дискурсе: автореф. дис. … канд. филос. наук. Краснодар, 2005. 23 с.
- Долгоруков В.В. Логико-эпистемологический статус прагматических ограничений: теоретико-игровой подход: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2015. 23 с.
- Лишаев С.А. Метафизика простых вещей (простая вещь как место сборки мира и человека)//Сила простых вещей: сб. ст./под ред. С.А. Лишаева. СПб., 2014. С. 20-33.
- Хайдеггер М. Размышления II-IV (Черные тетради 1931-1938)/пер. с нем. А.Б. Григорьева. М., 2016. 584 с.