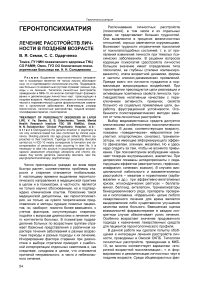Лечение расстройств личности в позднем возрасте
Автор: Семке В.Я., Одарченко С.С.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Геронтопсихиатрия
Статья в выпуске: 4 (47), 2007 года.
Бесплатный доступ
Выделение геронтологического направления в психиатрии является не только научно обоснованным, но и подтверждено клиническим опытом. Подразделение больных по возрастным группам отражает разные подходы к их лечению. Типология личностных расстройств, приведенная в МКБ-10, во многом соответствует формированию и декомпенсации личностных черт, происходящих в позднем возрасте. Необходимо учитывать в психопатологической и терапевтической оценке физиологические изменения и хронические заболевания.
Геронтология, личностные расстройства, поздний возраст, психофармакотерапия, психотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14295215
IDR: 14295215
Текст научной статьи Лечение расстройств личности в позднем возрасте
TREATMENT OF PERSONALITY DISORDERS IN LATER LIFE. V. Ya. Semke, S. S. Odarchenko. Tomsk, Mental Health Research Institute TSC SB RAMSci; Omsk, N. N. Solodovnikov Clinical Psychiatric Hospital. A b-str a c t : Distinguishing the geriatric direction in psychiatry is not only evidence based but also confirmed by clinical experience. Dividing patients into age groups reflects different approaches to their treatment. Typology of personality disorders carried out in ICD-10 mostly corresponds to formation and decompensation of personality traits occurring in later life. It is necessary to take into account in psychopathological and therapeutic assessment physiologic alterations and chronic diseases. Key words: geriatrics, personality disorders, later life, psycghopharmacotherapy, psychotherapy.
Число престарелых граждан во всем мире быстро растет, соответственно проблемы старости и старения становятся глобальными. К настоящему времени выделение геронтологического направления в медицинской практике в целом и в психиатрии, в частности, является не только научно обоснованным, но и подтверждено клиническим опытом. Появление такой медицинской дисциплины, как геронтопсихиатрия, не только не сузило теоретические представления и методы курации пожилых пациентов, но, наоборот, помогло более взвешенно, с учетом факторов, сопутствующих старению, подойти к вопросам диагностики и лечения этого контингента больных. В психиатрии подразделение больных по возрастным группам отражает базисные представления о различном характере течения заболеваний в разные возрастные периоды и разные подходы к их лечению. Игнорирование фактора старения при диагностике и выборе стратегии приводит к ошибочной интерпретации отдельных симптомов и, как следствие, синдрома в целом, что становится причиной неправильного, а часто и небезопасного лечения.
Распознавание личностных расстройств (психопатий), в том числе и их отдельных форм, не представляет больших трудностей. Они выявляются в процессе межличностных отношений, хорошо замечаются окружающими. Возникают трудности отграничения психопатий от психопатоподобных состояний, т. е. от проявлений изменений личности при тяжелых психических заболеваниях. В решении вопросов коррекции психопатий (расстройств личности) большое значение имеет определение типа психопатии, ее глубины (степени компенсиро-ванности), этапа возрастной динамики, формы и частоты клинико-динамических проявлений. Прежде всего эти личности нуждаются в нормализации микросредовых воздействий. При психотерапии преследуются цели реализации и активизации позитивных свойств личности, противодействие негативным качествам с переключением активности, привычек, свойств больного на социально приемлемые цели, выработку фрустрационной устойчивости. Особенности психотерапевтических методик зависят от типа личностных расстройств.
Выбор медикаментозных средств диктуется клиническими особенностями психопатического «срыва». В дозах, соответствующих возрасту, показаны «поведенческие» нейролептики (не-улептил, хлорпротиксен, сонапакс), транквилизаторы, не имеющие эйфоризирующего эффекта (феназепам, элениум. мезапам). Но и здесь надо следить за тем, чтобы не возникло привыкание. При психомоторном возбуждении назначают тизерцин внутримышечно, азалептин. При депрессиях показаны антидепрессанты с седа-тирующим эффектом (амитриптилин, герфонал, анафранил, синекван, коаксил). В случаях эмоциональной лабильности и вазовегетативных расстройств – мезапам и нормотимики (карбамазепин и др.), при аффективно-вегетативных кризах, ипохондрических раптусах – беллата-минал, беллоид, антелепсин, транквилизаторы бензодиазепинового ряда, препараты прозери-на и скополамина. «Идеальной» целью любого лекарственного лечения для врача является выздоровление либо существенное улучшение качества жизни больного. Взвешенная оценка возможностей фармакотерапии в каждом конкретном случае обеспечивает успех лечения. Особенно возрастает значение продуманного подхода к назначению лекарственных средств для пациентов геронтологического профиля.
В данной работе мы сделали попытку обобщения и интеграции лечения расстройств личности, проводимых в Омской ОКПБ. Типология личностных расстройств, приведенная в МКБ-10, во многом соответствует вариантам «вторичной возрастной психопатизации», т. е. формированию и декомпенсации личностных черт в позднем возрасте. Среди общевозрастных фак- торов, которые необходимо учитывать в психопатологической и терапевтической оценке расстройств личности в позднем возрасте, отметим физиологические изменения (общие структурные и функциональные изменения внутренних органов с ограничением резервных и компенсаторных возможностей организма; распространенный атеросклероз сосудов и сосудов головного мозга; изменение рецепторной активности ЦНС в сторону снижения порога восприятия). Далее следуют хронические соматические и неврологические заболевания, сопутствующие процессу старения; наличие таких заболеваний требует не только осторожности в применении, но и резкого ограничения их использования (болезнь Паркинсона, дегенеративные атрофические процессы головного мозга). С возрастом расширяется список лекарственных препаратов, которые пациенты принимают постоянно для печения хронических заболеваний внутренних органов, часто лечение психических расстройств приходится начинать в условиях полифармакотерапии.
Сочетание факторов физиологического старения с наличием большого числа хронических заболеваний и имеющейся полипрагмазией приводит к изменению стандартной фармакодинамики и фармакокинетики, следствием чего являются часто неожиданные для врача результаты психофармакотерапии: изменение ожидаемого терапевтического профиля известного препарата в сторону как ослабления, так и усиления его лечебного эффекта; снижение уровня безопасности применения с увеличением частоты развития острых и хронических осложнений и побочных эффектов.
Основные фармакокинетические параметры, такие как всасывание, распределение, метаболизм и выведение лекарственных препаратов, подвергаются изменению в позднем возрасте. Заболевания ЖКТ, особенно тонкого отдела кишечника, влияют на снижение уровня всасывания, отодвигая во времени процессы метаболизма. Возрастание массы тела за счет увеличения жировой ткани приводит к более широкому распределению жирорастворимых субстанций (бензодиазепины, нейролептики и др.) и требует более длительного их выведения из организма. Снижение активности ферментной системы печени в результате физиологического старения или хронического заболевания приводит к увеличению времени печеночного метаболизма, увеличению периода их полужизни, что важно учитывать при разработке режима дозирования (более редкий прием), оценке опасности передозировки и тяжести побочных эффектов.
Лечение параноидного расстройства. Оптимальным подходом является поддерживающая индивидуальная психотерапия. Эти больные плохо переносят групповую терапию, а поведенческая психотерапия кажется им слишком принудительной. Большего успеха достигают когнитивно-поведенческие программы, направленные на снижение фонового уровня тревожности и совершенствование навыков проблемно-решающего поведения. Врач должен стремиться быть предельно открытым, последовательным и аутентичным, честное признание чего-то здесь всегда предпочтительнее защитного аргументирования. Высказывания врача должны быть ясными, однозначными, стиль обращения – профессиональным, уважительным и несколько дистанцированным с учетом того, что доверие и близость отношений являются проблемными зонами этих больных.
Не следует чрезмерно усердствовать с интерпретацией зависимости и заниженной самооценки больных, скрывающейся за защитным фасадом недоверия и враждебности. Базисная установка непредубежденного и благожелательного помощника способствует принятию пациентом альтернативных объяснений происходящего. Продуктивнее не торопиться с коррекцией таких защитных механизмов, как отрицание действительности и проекция вины на окружающих. Лучше просто внимательно вслушиваться в обвинения и жалобы больного, избегая вставать на чью-то сторону. Лекарственную терапию эти больные принимают с излишней долей подозрительности и эффекта от нее обычно не отмечают. Хотя прямой эффект действительно проблематичен, тем не менее, при эпизодах тревожной ажитации возможно кратковременное назначение бензодиазепинов: бредоподобные истолкования являются показанием для назначения малых доз сонапакса или галоперидола.
Лечение шизоидного расстройства личности. Вследствие низкой мотивации к лечению и трудностей в установлении эмпатических отношений с врачом больные шизоидного типа плохо вовлекаются в психотерапию. Общие принципы терапии сходны с таковыми при параноидном расстройстве. Более благоприятной для терапии является свойственная шизоидным больным тенденция к интроспекции, которая может стать основой для мотивации к лечению. Постоянная холодная дистанцирован-ность пациента обусловливает высокие требования к врачу. Он должен демонстрировать противоположное поведение, поскольку именно теплые, заботливые отношения обладают высоким терапевтическим потенциалом. Больные в большей степени пригодны для групповой терапии, где их удается включить в групповой процесс, несмотря на внешнюю пассивность поведения. Группа, где больные видят интра-вертированность и социальную дезадаптацию других – хорошее средство для снижения чувства собственной стигматизированности. Пациенты болезненно воспринимают навязываемую социальную близость, в силу чего нуждаются в защите от упреков других членов группы за недостаточную активность. Со временем группа может становиться важной для больных, обеспечивая единственную социальную поддержку в их уединенном существовании. «Эффективной может оказаться индивидуализированная поведенческая программа социальной активации. Лекарственная терапия малоэффективна. Её успех усиливается при коморбидности с вариантами шизотипического или тревожного (уклоняющегося) расстройств (смешанный тип).
Лечение диссоциального расстройства . Пациенты данной категории не способны к установлению стабильных эмпатических отношений. Это делает понятной трудность их психотерапевтического ведения. Группа понимающих и доброжелательных сверстников – та обстановка, в которой диссоциальный психопат хочет измениться. Подобная группа может помочь и восполнить дефекты воспитания в детстве. Группа выступает здесь как заменитель любящей, заботливой семьи, которой у больного, как правило, не было. Вот почему группы самопомощи оказывались более эффективными в послаблении этого расстройства, чем места заключения и принудительного лечения. Решающим является правильный состав группы, дис-социальный больной может дезорганизовать ее работу, если в ней преобладают робкие, ведомые члены. Полезным может оказаться применение семейной и супружеской терапии. Методы поведенческой терапии в рестриктивных условиях (в программах принудительного лечения) оказывают ограниченный эффект. В установлении психотерапевтических отношений важны четкие рамки, затрудняющие манипулирование со стороны больного (в особенности, суицидный шантаж). Важно также помочь ему в различении контроля и наказания, конфронтации с реальностью и возмездия.
Фармакотерапия призвана здесь решать задачи контроля над сопутствующими тревожнодепрессивными синдромам, импульсивностью. Однако к ней следует подходить с максимальной осторожностью, учитывая, что седативные препараты снижают мотивацию к работе над собой, кроме того, эти больные представляют собой группу повышенного риска развития токсикомании. Литий хорошо зарекомендовал себя в коррекции эпизодов агрессивного поведения.
Лечение эмоционально-неустойчивого расстройства личности. Импульсивный подтип. Акцент в терапии этих больных ставится на фармакологическом компоненте программы. Оптимальные результаты достигаются использованием лития и карбамазепина. Успех других антиконвульсантов возможен, но предсказать ею в каждом отдельном случае трудно. То же можно сказать о нейролептиках и антидепрес- сантах, использование которых при повышенной судорожной готовности чревато усугублением симптоматики. При лечении бензодиазепиновыми препаратами следует иметь в виду возможные парадоксальные реакции усиления эксплозивности. Психотерапевтические программы (в особенности с использованием групповой и семейной терапии) имеют целью преимущественно сглаживание социальных последствий агрессивного поведения, поскольку не в состоянии предотвратить наступление эпизодов эксплозивности. Пограничный подтип. Методом выбора является длительное стационирование с интенсивной индивидуальной и групповой психотерапией. Психотерапия пограничных расстройств является темой интенсивных исследований в последние годы. Она представляет собой трудный для врача процесс в силу того, что в отношениях с ним больные повторяют свой стереотип эмоционально интенсивного и нестабильного взаимодействия с окружающими, это требует установления рамок, позволяющих защитить врача от манипулирования больного лекарственной терапией, поведенческого отреагирования и суицидного шантажа, чтобы психотерапия вообще могла происходить. Это же дает возможность на примере отношений с врачом показать больному, как он ведет себя с другими значимыми людьми.
Основной целью терапии является коррекция примитивных механизмов психологической защиты, обуславливающих нереалистическое восприятие себя и окружающих. Анализ конкретных элементов поведения, когнитивные техники и конфронтация с реальностью оказываются более эффективными, чем глубинные интерпретации бессознательных переживаний. Опыт пациента, свидетельствующий о том, что врач в состоянии выдержать его агрессию и не покинуть его, является решающим для установления устойчивых терапевтических отношений. Далее постепенно удается выяснить исторический генез дезадаптивных поведенческих стереотипов, первоначально сформировавшихся в детстве в отношениях с родителями и позднее переносимых в другие коммуникативные ситуации.
Психофармакотерапия пограничных больных носит симптоматический характер. Ингибиторы МАО снижают импульсивность поведения и дисфорические реакции, карбамазепин способствует нормализации социального поведения. Литий контролирует колебания настроения, нейролептики помогают контролировать агрессивность и купировать субпсихотические эпизоды, антидепрессанты и анксиолитики используются для воздействия на тревожные и депрессивные компоненты синдрома. В лекарственном лечении этого контингента в особен- ности показана настороженность относительно возможного появления токсикоманических тенденций, прежде всего в отношении спиртсодержащий медикаментов.
Лечение истерического расстройства личности . Самым существенным в психотерапии этих больных является коррекция механизмов дезадаптивной психологической защиты, выведение в сознание вытесненных содержательных компонентов переживаний и опыта. Фармакотерапия используется при наличии симптоматических показаний. Выраженная социальная дезадаптация и дисфорические проявления являются показанием для назначения ингибиторов МАО.
Лечение ананкастного расстройства личности . Сложности проведения ПТ обусловлены тенденцией к высоко интеллегализи-рованному сопротивлению больных терапии. Это затрудняет эмоциональное опосредование достигаемого осознания личностных дефектов и распространение более продуктивного поведения за пределы терапевтической ситуации. Другим камнем преткновения является упрямство больных и борьба с врачом за контроль над ходом терапии с угрозой потери контакта. В последнее время с успехом используются когнитивно-поведенческие подходы, делающие возможной более непосредственную и краткосрочную коррекцию приспособительного поведения. Парадоксальная техника стимуляции к перфекционизму позволяет больному легче увидеть неадекватность его установок, техника остановки мысли воздействует на перегруженный навязчивыми сомнениями когнитивный процесс. Данные об успехе антиконвульсантов в лечении этого типа расстройства пока не являются подтвержденными.
Лечение тревожного расстройства личности . Методом выбора является интегративная модель, включающая психодинамические и когнитивно-поведенческие приемы. Психодинамические приемы исследуют биографическое формирование заниженной самооценки, когнитивно-поведенческие помогают больному осознать искажения ожиданий к окружающим, совершенствовать коммуникативные навыки. Весьма эффективными являются групповые программы ассертивного тренинга, тренировки самоутверждающего поведения. Самой ответственной частью программы является закрепление структурных личностных изменений, достигнутых в ходе лечения, в реальном общении за пределами терапевтической ситуации. Здесь важно, чтобы возможные неудачи не нанесли урон самооценке больного, а достигаемый успех делал бы коммуникативное поведение са-моподкрепляемым.
Лечение зависимого расстройства личности. Задачей психодинамической тера- пии является коррекция нереалистических представлений больного о том, что психологическая независимость означает одиночество и потерю любви близких. Групповая терапия с женщинами в особенности эффективна в гомогенных по полу группах. У женщин зависимость определяется не только нарушениями индивидуального развития личности, но и социальными ожиданиями полоролевого поведения. критической может оказаться ситуация, когда для выведения из социальной дезадаптации требуется отделение от доминирующего лица, являющегося причиной дезадаптации (например, агрессивного и алкоголизирующегося супруга). Пациентка может оказаться перед крайне для нее мучительным выбором между необходимостью сотрудничества с врачом и лояльностью к патологическим отношениями с супругом.
Врач всегда должен подчеркивать большое уважение к чувству зависимости больного, сколь бы патологичным оно не являлось. Врачу важно также самому не «застрять» в роли доминирующего лица, обеспечив достаточные условия для формирования автономного поведения больного. Опасным противопереносом являются отрицательные эмоции, возникающие у психотерапевта в связи с чрезмерными ожиданиями больного опекать его и принимать за него решения. Сопутствующие тревожнодепрессивные проявления являются показанием для соответствующей симптоматической психофармакотерапии. Манипулирование симптомами и лекарственными назначениями может быть одним из внешних проявлений психологической зависимости от врача, к которой склонны эти пациенты. Вообще, врачам приходится оказывать помощь больным психопатией в том случае, когда у них возникает тот или иной вариант декомпенсации. Поскольку проявлением декомпенсаций могут быть различные психогенные заболевания и злоупотребление ПАВ, лечение этих расстройств осуществляется в соответствии со стандартными рекомендациями.
В наше время психология и психотерапия будут играть главную роль в попытках помочь людям сделать их жизнь более плодотворной и полной смысла. Особенно это актуально в отношении пожилых людей. В связи со сложностью задач, поставленных перед психиатрией, психологией и психотерапией, требующих многостороннего подхода к человеку с учетом взаимодействия когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов его функционирования, возрастает интерес к интегративному движению, которое бы предполагало концептуальный синтез разных теоретических систем и объединяло конкретные лечебные методы, исходя из потребностей лечебной практики.
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЙ ОДИНОЧЕСТВА ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
В. Ф. Друзь, И. Н. Олейникова
Оренбург, ГОУ ВПО Государственная медицинская академия» Росздрава, Областная клиническая психиатрическая больница № 1
Р ез ю м е : Состояния одиночества выявлены у 2/3 больных геронтопсихиатрического участка диспансера. Выделены три типа: «страдающий», «псевдокомпенсация», «гармоничный». Установлены факторы, способствующие их формированию (демографические, социально-бытовые, социально-психологические, клинические), и основные стратегии совладания с одиночеством, используемые пациентами. Психосоциальная коррекция состояний одиночества, строящаяся на организации эмоциональной и инструментальной поддержки, целенаправленном стимулировании конструктивных способов совладания с одиночеством и устранении дезадаптивных, с учетом типов одиночества и факторов, их определяющих, оказалась эффективной в 63,8 % случаев. Ключевые слова : одиночество, психически больные, поздний возраст, психосоциальная коррекция.
A b s tr a c t : The solitude-states are exposed on two-thirds of the patients from geropsychiatrical district of dispensary. 3 types of this state are divided: «distressed», «pseudo-replacement», «harmonic». The factors assisting in their formation (demographical, social-homely, social-psychological, clinical) and the principal strategies of the solitude-control used by the patients are determined. The psychosocial correction of the solitude-states constructing with the organization of emotional and instrumental support, with the purposeful stimulation of constructive methods of the solitude-control and with obviation of the desadaptable methods, including the types of solitude and the factors their defining would appear effective in 63,8 % of cases. Key words: a solitude, mentally sicks, late age, psychosocial correction.
Состояния одиночества в позднем возрасте изучались в основном психологами, социологами и социальными психологами [2, 9]. Психиатрический аспект одиночества остается малоизученным [1, 4]. В последние годы в отечественной психиатрии появились работы, посвященные одиночеству пожилых и разработке мер психосоциальной коррекции [3, 4, 5]. Однако эти исследования касались лиц преклонного возраста, у которых состояние одиночества было единственным психическим расстройством и отсутствовали тяжелые соматические заболевания. Состояния одиночества у пожилых и старых больных, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, не рассматривались. Между тем их изучение и разработка мер психосоциальной коррекции важны в связи с задачами вторичной и третичной психопрофилактики [7].
Цель – определение частоты и особенностей состояний одиночества у диспансерного контингента больных позднего возраста и разработка системы мер их психосоциальной коррекции.
Под состоянием одиночества нами понималось, согласно концепции R. S. Weiss [10], тягостное переживание, связанное с дефицитом социальных связей или их неудовлетворенностью. Так же, как и другие авторы [3–6], мы рассматривали его на трех уровнях: интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом. На интеллектуальном уровне – это представления и мысли в связи с ситуацией одиночества (смерть близких, отделение взрослых детей, распад семьи из-за конфликтов с родственниками, неудачные попытки создать собственную семью и т. п.). На эмоциональном – разнообразные расстройства депрессивного спектра, чаще всего дистимия. На поведенческом уровне – снижение активности, стремление ограничить или наоборот расширить общение с другими людьми.
Обследованы одиноко проживающие больные геронтопсихиатрического участка диспансера, обслуживающего Дзержинский район Оренбурга, зарегистрированные на 01.01.2001 (165 чел.). В дополнение к клиническому применялся социально-психологический метод (анкетирование, интервьюирование больных, врача и медсестры диспансера, родственников, живущих отдельно, и других членов социальной сети пациентов по специально разработанной программе; выяснялось наличие состояния одиночества и его особенности, факторы, их определяющие, способы преодоления одиночества, взаимоотношения больных с членами социальной сети). Работа проводилась с 2001 по 2004 г. Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью компьютерной программы «Statistica 5.0».
Состояния одиночества выявлены почти у 2/3 больных (105 чел. – 63,6 %; р<0,05). Среди них было 83 женщины и 22 мужчины в возрасте от 60 до 86 лет (средний возраст 68±1,7 года). Только в 5 случаях (4,8 %) психические расстройства обусловлены состоянием одиночества (истерическое и депрессивное невротические развития личности, соответствующие рубрикам F44.7 и F34.1 МКБ-10). В остальных наблюдениях депрессивные состояния (чаще всего дистимия), связанные с одиночеством, являлись коморбидными расстройствами основным психическим заболеваниям. Преобладала сосудистая патология – F01, F06, F07 (39 %), в два раза реже встречались шизофрения – F20 (21,9 %) и эндогенные аффективные психозы – F31, F33 (20 %), в 3 раза реже – экзогенно-органические заболевания – F06, F07 (12,4 %), совсем редко – инволюционный парано-ид – F22.8 (1,9 %). Чаще всего ведущими в клинической картине были параноидные расстройства (30,5 %), реже и примерно с одинаковой частотой – депрессивные (20 %), невротические и неврозоподобные (18,1 %), психоорганические (15,2 %), значительно реже – психопатоподобные (7,6 %), апатоабулические (4,8 %) и лакунарная деменция (3,8 %). Длительность заболеваний варьировала от 4 до 28 лет (12±1,8 года в среднем), продолжительность одинокого проживания – от 4 до 22 лет (8±1,7 года в среднем).
Исходя из задач психосоциальной коррекции, мы выделили три типа одиночества. 1) «Страдающий», наиболее распространенный, характеризуется тягостным переживанием одиночества, сопровождающегося выраженными депрессивными расстройствами, несмотря на поддержку родственников и других членов социальной сети (76 чел. – 72,4 %). 2) «Псевдокомпенсация» – для преодоления одиночества больные используют дезадаптивные способы, приводящие к конфликтам с микросоциальным окружением (21 чел. – 20 %). 3) «Гармоничный» – переживание одиночества смягчается трезвой оценкой ситуации, выбором адекватных стратегий совладания (8 чел. – 7,6 %).
Главной целью психосоциокоррекционной работы были изменения в установках и функционировании личности пациента, приводящие к ослаблению или редукции переживаний одиночества. Психокоррекционные подходы основывались на выявлении способов, с помощью которых больные самостоятельно пытались справиться с одиночеством; поощрялись, стимулировались эффективные и элиминировались дезадаптивные. Стратегии совладания отчасти совпадали с описанными у пожилых с пограничными расстройствами [3]. Хотя имелись и отличия, обусловленные наличием у большинства больных других (более значительных) психических нарушений и распространенностью серьезной соматической патологии. Они заключались в разной частоте отдельных стратегий совладания при каждом типе и в своеобразии их проявлений.
Основными принципами психосоциальной коррекции состояний одиночества являлись: 1) понимание врачом тяжелого кризиса личности пациента, предоставление ему возможности высказаться, отреагировать в беседах свои тягостные переживания одиночества; 2) организация эмоциональной и инструментальной поддержки больным, привлекая для этого членов социальной сети, особенно опекунов; 3) учет основных способов, с помощью которых пациенты пытаются совладать с одиночеством, с целью направленного использования их в процессе психосоциальной коррекции; 4) учет особенностей (типов) состояний одиночества и факторов, их определяющих (демографических, социально-бытовых, социально-психологических и клинических); 5) сочетание психосоциальной коррекции одиночества с лечением и реабилитацией других психических и соматических заболеваний.
Кардинальной особенностью «страдающего» типа являлось наиболее выраженное состояние одиночества по сравнению с другими. Из факторов, способствующих его формированию, существенное значение для психосоциальной коррекции имели молодой пресенильный возраст (65±1,4 года в среднем); распространенность среди пациентов лиц с низким уровнем образования (34,2 %) и материального обеспечения (63,2 %), плохими жилищными условиями (36,8 %), инвалидностью I и II групп – 60,5 %) и серьезной соматической па- тологией (44,7 % больных с выраженной и тяжелой декомпенсацией). Преобладание больных с органическими заболеваниями (56,6 %), состояние которых определялось чаще всего параноидной (22,4 %) и неврозоподобной (18,4 %) симптоматикой, реже – психоорганической (7,9 %) и психопатоподобной (2,6 %) с астенической основой и лакунарной деменцией (5,3 %). Сюда вошли также больные эндогенными аффективными психозами (27,6 %), протекающими монополярно с депрессивными фазами (19,7 %), реже – биполярно с преобладанием депрессивных фаз (7,9 %), и пациенты с психогениями, обусловленными одиночеством (6,6 %). Больные шизофренией, в клинической картине которых ведущими были либо параноидные шубы с астеническим дефектом в ремиссии (5,3 %), либо апатоабуличе-ский дефект с астеническими проявлениями (3,9 %), составили 9,2 %. Наличие почти у 4/5 больных (78,9 %) собственной семьи в прошлом, утрата которой в большинстве случаев (50 %) вызвана не психическими расстройствами, а событиями, обусловленными возрастом (чаще всего смертью близких (32,9 %), реже – отделением взрослых детей – 10,5 %) и социально-психологическими факторами (конфликтами больных с родственниками, не связанными с болезнью пациентов – 6,6 %). Почти в два раза реже (28,9 %) распад семьи определялся неправильным поведением больного вследствие психического заболевания. Остальные пациенты (21,1 %) не смогли создать собственную семью из-за рано начавшегося психического заболевания (11,9 %), а также расстройств личности (астенических и психастенических) и дисгармоничных отношений в генеалогических семьях (подавляющая гиперопека – 5,3 % и симбиотическая связь с родителями в молодом и среднем возрастах – 3,9 %) в преморбиде.
Для смягчения одиночества пациенты использовали одновременно несколько способов. Доминирующим в начале одиночества у 88,2 % больных было «мысленное общение с образом умершего или покинувшего родственника». Реже применялись остальные стратегии совладания: «стремление к уединению» (43,4 %), «опора на социальные связи» (34,2 %), «избегающее поведение» (30,3 %), «уход в занятость» (28,9 %), «обращение к религиозной вере» (27,6 %), «формирование культа умершего или покинувшего родственника» (23,7 %).
Первоочередной задачей психокоррекционной работы было оказание больным эмоциональной поддержки. Особое значение придавалось коррекции идей самообвинения и виновности, мыслям об утрате смысла жизни. Решению этой задачи способствовали более частые встречи врача с пациентами. Учитывая также нередко наблюдающуюся тяжелую соматическую патологию, осмотр врачом диспансера проводился не реже 1 раза в 2 месяца. Второй важной задачей являлось формирование у больных установки на восстановление отношений с родственниками, живущими отдельно, и другими членами социальной сети (друзья, бывшие сослуживцы, соседи и т. п.), т. е. применение стратегии совладания «опора на социальные связи». Особое значение придавалось опекунам (членам социальной сети больных, которые более других оказывают им социальную поддержку, включая сюда как формальных опекунов, назначенных опекунским советом недееспособным больным, так и людей, не наделенных официальными полномочиями, но в наибольшей степени заботящихся о пациентах), с которыми врачу приходилось наиболее тесно взаимодействовать, оказывая больным медико-социальную помощь. Роль опекунов была особенно велика, поскольку больные нуждались не только в эмоциональной, но и в значительной инструментальной поддержке из-за выраженной соматической патологии и низкого социального статуса. Существенной задачей психокоррекционной работы были поддержание или выработка у пациентов установки на избегание ситуаций, связанных с болезненными воспоминаниями об утрате и актуализацией одиночества. Ее решению, помимо вышеуказанной стратегии, содействовали способы совладания «уход в занятость» и «обращение к религиозной вере».
В результате психосоциальной коррекции повысился удельный вес конструктивных стратегий совладания – «опора на социальные связи» (с 34,2 до 73,7 %, p<0,001), «обращение к религиозной вере» (c 27,6 до 52,6 % p<0,01), «уход в занятость» (с 28,9 до 50 %, р<0,01). Значительно снизилась доля таких пассивных способов совладания, как «уединение» (с 43,4 до 6,6 %, р<0,001), «избегающее поведение» (с 30,3 до 5,3 %, р<0,001), «мысленное общение с образом умершего или покинувшего родственника» (с 88,2 до 64,5 %, р<0,001) и несколько уменьшился удельный вес стратегии «формирование культа умершего или покинувшего родственника» (с 23,7 до 13,2 %, р>0,05). Уменьшение чувства одиночества произошло у 47 (61,8 %, р<0,01) больных, у 8 (10,5 %) из них тип одиночества трансформировался в более адаптивный – «гармоничный».
Для типа «псевдокомпенсация» характерно умеренно выраженное состояние одиночества, от которого больные пытались избавиться с помощью частых поверхностных контактов, используя вышеописанные стратегии совладания (не встречалось «избегающее поведение») в вычурной, парадоксальной, нередко деструктивной форме, приводящие к столкновениям с ближайшим окружением. Факторы, формирующие данный тип одиночества, можно разделить на группы: 1) сходные со «страдающим», способствующие развитию одиночества, и 2) отличные от них, содействующие менее выраженному переживанию одиночества и предающие своеобразие данному типу. В первую группу входили: пресенильный возраст (69±1,5 года), высокий удельный вес больных с низким уровнем образования (23,8 %) и материального обеспечения (57,1 %), плохими жилищными условиями (33,3 %), инвалидностью I и II групп – 52,4 %), наличие у более 2/3 больных (71,4 %) собственной семьи в прошлом, утрата которой чаще связана с неклиническими факторами (42,8 %). Почти в 1,5 раза реже распад семьи вызван неправильным поведением пациентов, обусловленным психическими нарушениями (28,6 %). В остальных случаях (28,6 %) препятствием созданию собственной семьи были расстройства личности и дисгармоничные отношения в генеалогических семьях в преморбиде (23,8 %), а также рано начавшееся заболевание (4,8 %). По всем вышеперечисленным показателям различия со «страдающим» типом не достигают статистической значимости. Между тем наблюдались отличия в конкретных факторах одинокого проживания: низкий удельный вес такого возрастного события, как смерть близких (4,8 %, p<0,01), иной характер расстройств личности (шизоидные, истерические) и нарушений отношений в генеалогических семьях (потворствующая гиперопека) в преморбиде, препятствующих созданию семьи. Ко второй группе факторов также относились преобладание женщин (95,2 % против 73,7 % у больных «страдающего» типа, p<0,01), которые легче переживают одиночество, чем мужчины [8], более удовлетворительное соматическое состояние (выраженная и тяжелая декомпенсация наблюдались лишь у 19 % больных, р<0,05), превалирование в нозологической структуре шизофрении (71,4 %, р<0,01), наличие инволюционного пара-ноида (9,5 %), небольшая доля органических заболеваний (19,0 %, р<0,05). В клинической картине заметно чаще ведущими были параноидные (52,4 против 27,7 %, р<0,05) и психопатоподобные (28,6 и 2,6 %, р<0,05) расстройства. Последние представлены дефектом типа фершробен с чертами сензитивности.
Первоначально отмечалось следующее распределение стратегий совладания с одиночеством: «мысленное общение с образом умершего или покинувшего родственника» (81,0 %), «формирование культа умершего или покинувшего родственника» (71,4 %), «опора на социальные связи» (57,1 %), «забота о домашних животных» (42,8 %, не встречалась при «страдающем» типе), «уединение» (38,1 %), «уход в занятость» (14,3 %), «обращение к религиозной вере» (9,5 %). Причем «уединение» парадоксально сочеталось с «опорой на социальные связи» в виде частых и поверхностных контактов. Такая амби-тендентность не столько уменьшала одиночество, сколько его усиливала в связи с возникшими коллизиями с членами социальной сети.
Ключевой задачей психосоциальной коррекции было устранение дезадаптивных способов совладания с одиночеством и замена их на социально приемлемые и конструктивные. Важным условием работы в данном направлении было наличие опекуна. Его роль заключалась не только в помощи выбора и участии в новой стратегии совладания, но и в смягчении или устранении конфликтов между больным и его ближайшим социальным окружением. Вследствие психокоррекционной работы способы совладания применялись в более продуктивной форме. Изменилась их структура, уве- личился удельный вес таких стратегий, как «забота о домашних животных» (с 42,8 до 61,9 %, р>0,05), «опора на социальные связи» (с 57,1 до 71,4 %, р>0,05), «уход в занятость» (с 14,3 до 52,4 %, р<0,05), «обращение к религиозной вере» (с 9,5 до 23,8 %, р>0,05). Уменьшилась доля способов совладания: «мысленное общение с образом умершего или покинувшего родственника» (с 81 до 52,4 %, р<0,05), «формирование культа умершего или покинувшего родственника» (с 71,4 до 57,1 %, р>0,05), «уединение» (с 38,1 до 14,3 %, р>0,05). Положительная динамика стратегий совладания не имела статистически значимых различий, что объясняется небольшим числом наблюдений в данной группе. Это не умоляет значения психокоррекционной работы, поскольку уменьшение чувства одиночества наблюдалось у 2/3 – 14 больных (66,7 %, р<0,05), у 5 (23,8 %) из них тип одиночества трансформировался в «гармоничный».
Для «гармоничного» типа свойственны умеренно выраженное переживание одиночества, сглаживающееся критическим отношением к своему положению, стремлением к оптимальным способам его преодоления, сотрудничеством с медицинскими работниками. Факторы, формирующие данный тип, отличались от предыдущих: старческий возраст (75±1,5 года), более высокий социальный (отсутствие больных с плохими жилищными условиями и материальным обеспечением, низким уровнем образования и инвалидностью I группы) и соматический (не было пациентов с выраженной и тяжелой декомпенсацией) статусы, значительное преобладание больных с органическим поражением головного мозга (87,5 %, различие с типом «страдающий» – p<0,05, с «псевдокомпенсацией» – p<0,01), состояние которых определялось умеренно выраженным психоорганическим синдромом по астеноэкспло-зивному варианту (различие со «страдающим типом» – p<0,001, с «псевдокомпинсацией» – p<0,01). 12,5 % приходилась на шизофрению, встречавшуюся достоверно реже по сравнению с «псевдокомпенсацией» (p<0,01) и с такой же частотой, как при «страдающем» типе. Большая доля больных (75,0 %), не имевших собственной семьи (различие со «страдающим» типом – p<0,01, с «псевдокомпенсацией» – p<0,05), из-за расстройств личности (сочетание психастенических и сензитивно-шизоидных свойств с возбудимыми) и дисгармоничных отношений в генеалогических семьях (подавляющая гиперопека и эмоциональное отчуждение) в преморбиде.
С наступлением одиночества большинство больных применяли стратегии совладания «опора на социальные связи» (75,0 %) и «уход в занятость» (62,5 %), 50 % пациентов – «мысленное общение с образами расставшихся с больными родственников», сочетавшуюся с «обращением к религиозной вере» (25,0 %) и «уединением»
(25,0 %), 25,0 % больных использовали «заботу о домашних животных». Основными задачами психосоциальной коррекции были укрепление адаптивных способов совладания и устранение пассивных, расширение и повышение качества социальных связей, стимулирование активирующих форм занятости. В процессе психокоррекционной работы все больные стали использовать стратегию совладания «опора на социальные связи», чаще применяли способы совладания «уход в занятость» (87,5 %), «обращение к религиозной вере» (50,0 %), «забота о домашних животных»
(50,0 %), реже – «мысленное общение с образами расставшихся с больными родственников» (25,0 %). Потеряло актуальность «уединение». В 6 случаях (75,0 %) состояние одиночества редуцировалось полностью, в 2 (25 %) значительно ослабло.
В результате психосоциальной коррекции состояний одиночества положительный эффект наблюдался почти у 2/3 больных (67 чел. – 63,8 %, p<0,05). В основном отмечалось его заметное уменьшение (61 чел. – 58,1 %), значительно реже – полная редукция (6 чел. – 5,7 %).
Проведенное исследование выявило высокую распространенность состояний одиночества среди пожилых и старых пациентов диспансера, а также установило их типы в зависимости от демографических, социально-бытовых, социальнопсихологических и клинических факторов, а также продуктивные и дезадаптивные стратегии совладания с одиночеством. Разработанная система мер психосоциальной коррекции состояний одиночества, основанная на организации социальной поддержки больных, с учетом полученных данных является достаточно эффективной.