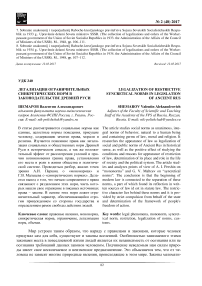Легализация ограничительных синкретических норм в законодательстве Древней Руси
Автор: Шемаров Валентин Александрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (48), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается социальные нормы как единые, целостные нормы поведения, присущие человеку, содержащие зачатки права, морали и религии. Изучается появление права как легализация социальных и общественных норм Древней Руси в историческом смысле, а так же положительный эффект от рассмотрения условий и причин возникновения границ права, установления его места и роли в жизни общества и политической системе. Проводиться разбор, анализ точек зрения А.И. Першиц о «мононормах» и Г.В. Мальцева о «синкретических нормах». Делается вывод о том, что начало современного права связывают с разделением этих норм, часть которых нашли свое отражение в писаных источниках права - законе. В основе этих норм лежит ограничительный характер, обеспечивающийся строгим принуждением со стороны государства и определением рамок свободы действия людей.
Правовые явления, синкретическая норма, ограничение, легализация норм, обычаи
Короткий адрес: https://sciup.org/142232751
IDR: 142232751 | УДК: 340
Текст научной статьи Легализация ограничительных синкретических норм в законодательстве Древней Руси
Мир устроен таким образом, что наряду с правилами и законами, которые человек придумал сам для себя, существуют и законы вселенной. Особенностью занимаемого этими законами места в повседневной жизни людей является их независимость от осознания или не осознания требований данных законов человеком. Подчинение неведомым нам силам природы имеет свое нескончаемое и неизменное предназначение. Это объясняется тем, что от человека не зависят многие природные явления, происходящие в этом мире. Законы математи- ки, физики, химии и других наук работают самостоятельно от желания человека. Он может лишь отчасти познать, усвоить их социальное значение и стремиться воспользоваться ими или подстроить их под свой образ жизни. Но пройдя многие ступени развития, человечество постигло и безоговорочно приняло одну из самых важных для себя истин вечного. Жить в обществе и быть свободным от него невозможно, один человек не может найти своего блага, только вместе мы сила, только вместе мы сможем приспособиться к силам природы. Именно эта истина заставила людей объединяться в семьи, роды, общины, племена, государства, союзы и другие общественные формирования [1, с. 6].
Уже задолго до возникновения государства существовали определенные формы человеческого общежития, социальное управление, власть, нормативное регулирование. Люди стали понимать, что кроме следования инстинктам, заложенным природой, они нуждаются в правовом инструменте, способном регулировать жизнедеятельность индивида, семьи, общины, государства. Страх человека перед силами природы, дикими зверями, другими людьми и племенами заставлял его придумывать себе богов и создавать определенные правила общественного поведения. Становление этих общественных феноменов происходило, как естественноисторический процесс и было обусловлено суровыми условиями выживания человека, необходимостью сохранения форм его социального бытия. Если животные подчинялись только биологическим законам, то человек стал человеком потому, что в дополнение к биологическим законам научился еще и регулировать свое поведение. Он изобрел общественные регуляторы, которые хотя и устранили биологические законы, однако существенно их потеснили [1, с. 7].
На Древней Руси славянофилы осознали необходимость совместного проживания, что вылилось в такую форму человеческого общежития, как род или первобытно-родовую общину, которая представляла собой на основе кровного родства объединение людей, общей собственности на орудия труда и продукты деятельности, совместного коллективного труда. Управление родом осуществлялось с помощью самоуправления: собрание взрослых членов рода, вожди, старейшины и др. Все это определяло равенство членов рода и нераздельность их интересов.
Стоит отметить, что термин «право» в Древнерусском государстве является собирательным, его корни находятся в далеком историческом прошлом. В основе современного юридического права лежат древние суеверия, заклинания, обычаи, устои, традиции, агрокалендари, мифология и т.д. Все они являлись частью жизнедеятельность людей, выполняли возложенные на них функции по регулированию общественных отношений, что человек должен делать и от чего ему приходилось всячески воздерживаться.
Все формообразующие явления древности взаимосвязаны: миф обосновывает и объясняет обычаи, обычай опредмечивает мифы, нормативные мифологические образы переходят в образные нормы, подтверждаемые мифологическим примером и актуализируемые ритуалом.
Углубленное изучения появления права как легализации социальных и общественных норм Древней Руси в историческом смысле, носит не только познавательный характер, но и поможет нам лучше рассмотреть условия и причины возникновения границ права, точнее установить его место и роль в жизни общества и политической системе.
Догосударственные социальные нормы, существовавшие в первобытном обществе, в научной литературе получило название мононормы. Впервые это понятие ввел видный отечественный этнограф А.И. Першиц: «Мононорма (от греч. топоз – один, единый и лат. погта – правило) – обязательное правило поведения, в котором еще не дифференцировались различные нормы социальной регуляции: права, нравственности, этикета и т.п.» [2, с. 213]. Их можно определить как единые, нерасчлененные нормы поведения, присущие человеку, содержащие зачатки права, морали и религии. Они выражались в обычаях, тесно переплетенных с религиозными и нравственными устоями. Вне всякого сомнения, их существование сохраняло человеческое общество и обеспечивало возможность его дальнейшего развития. По своему характеру – это правила, выражающие устойчивые привычки, убеждающие своей целесообразностью.

Они концентрировали стихийно складывающиеся представления о полезном и вредном для рода или племени и, в конечном счете, были связаны со становлением общественного труда. Целью таких норм было поддержание и сохранение кровнородственной семьи.
Однако, по мнению Г.В. Мальцева данный термин не совсем точно отражает нормативную реальность первобытной жизни. Более удачным ее выражением является понятие «синкретическая норма», которое означает, что древний человек воспринимает норму комплексно, как целое, части которого он еще не способен различать и, следовательно, выделять. Вся материальная и духовная жизнь первобытного общества, все известные ему способы познавательной и практической деятельности не отделены друг от друга, сливаются в единый сплошной поток жизни. Этот всеобщий синкретизм первобытной культуры находит свое яркое отражение в самых различных сферах. Здесь важно не столько то, что первобытная норма дана как единая форма, несущая в себе одновременно религиозное, моральное и правовое содержание, сколько постоянное нарастание внутренней противоречивости этой формы [3, с. 40]. Синкретические нормы становилась все более ограниченными и узкими по отношению к столь богатому и динамичному содержанию. В основе этих норм лежал жесткий, императивный характер, который обеспечивался строгим принуждением и определял рамки свободы действия людей.
Рассматривая синкретическую нормативную систему, важно отметить, что ее ограничительные нормы выступают неотделимо от практических действий, поступков, от общественных отношений. Различие, которое мы сейчас проводим между отдельными группами социальных норм – религиозными, моральными, правовыми и прочими, – не имеет значения для практической организации поведения в первобытном коллективе. В нормативной сфере мы не смогли бы отделить собственно моральный элемент от религиозного, религиозный от правового, правовой и т.п. Но все же синкретическое состояние со временем приходит к концу по мере того, как усложняется хозяйственная, религиозная и социальная жизнь людей, что постепенно подводит перед необходимостью дифференцировать соционормативную культуру. Время разложения первобытного нормативного синкретизма – это и есть исторический генезис религии, морали, права, политических норм, различных нормативных систем [3. с. 39].
Начало появление современного права в древнерусском государстве можно связать с процессом расщепления системы мононормы в эпоху классооборазования. Если понимать мононорму как нормативный комплекс, соединяющий в себе элементы общественной жизни, то почему она трактуется как преходящее явление первобытности, тогда как это вполне реальный феномен современной культуры и способность соединять, сохранять в себе одновременно религиозные, моральные и правовые начала, что легко можно проследить в современном праве. В сущности, такими мононормами на Руси являются императивы типа «не убий», «не кради», «не лги» и т.п., а также такие жизненные правила как «да будет выслушана и другая сторона», «никто не может быть судьей в своем деле». Они соединяют в себе и религиозную заповедь, и моральную максиму, и правовое требование, являются тем, другим и третьим одновременно [3. с. 41].
Нужны были фундаментальные изменения в общественной жизни, прежде чем человек научился видеть в норме внешние требования к своему поступку, стал замечать, что он должен (обязан) действовать согласно правилу. Это означает, кроме всего прочего, что люди начинают интересоваться проблемой обоснования, оправдания или, как иногда говорят, легитимации норм. Иначе говоря, перед человеком возникает вопрос: почему я должен подчиниться этой норме, кто и какая сила требуют от меня именно такого, а не другого поведения? Возникают элементарные критические позиции в отношении единой системы норм, в результате чего оказывается, что она не такая уж единая, как представлялась людям раньше. Они научились теперь видеть противоречия между отдельными нормами, входящими в систему, различать их по источнику легитимации, т.е. от них уже не ускользает факт, что правила поведения, освященные авторитетом богов или духами предков, могут отличаться от образа действий, диктуемого хозяйственной целесообразностью, что два подобных курса поведения могут противоречить друг другу и что, наконец, между ними можно выбирать. Критическое и дифференцированное отношение к нормам соответствует времени разложения единой их сферы на отдельные социальные нормативно-регулятивные системы, вычленения морали, права, совокупности политических или религиозных норм и т.д. как самостоятельных общественных явлений [3 с. 42].
Г.В. Мальцев считал, что всякая развитая соционормативная культура, к какой бы эпохе она ни относилась, может быть в целом определена как право. Существует другая точка зрения, согласно которой смешение норм права с другими видами социальных норм неприемлемо, так как при этом теряется специфика и особая регулятивная природа каждого из видов социальных норм, а сами правовые явления утрачивают относительную самостоятельность, которой они обладают в социальной среде. Тем не менее, использование термина «право» применительно к огромным комплексам разнородных социальных норм часто встречается в литературе, посвященной проблемам антропологии социологии и этнографии [3. с. 43].
Стоит отметить, что в древнерусском государстве обычаи занимали важное положение в системе синкретических норм и легализовались в правовых актах, являлись источником русского права. В летописях и документах обычаи фигурируют как «старина» или «пошлина». Государство двояко относится к обычаям. Власть признавала силу обычаев, руководствуясь им и основывая на них свои решения. Это было наиболее частым способом. И, наоборот, власти могли наложить запрет на какой-либо обычай. В обоих случаях этим явлениям часто придавали писаную форму. Нормативные акты по сути представляют собой сборники обычаев того времени и выражаются как типизированные юридически значимые действия или решения, основанные на нравственных нормах и представлениях людей о справедливости или мере свободы действия. В настоящее время предполагают существование сборника обычаев, который носил название «Закон Русский». На этот источник ссылаются стороны в русско-византийских договорах 911 г. и 944 г. Однако реальными доказательствами того, что это особый сборник писаных обычаев, а не ссылка на обычай как таковой (иногда в переводе называют не «Закон Русский», а «Обычай русский»), исследователи не располагают. Но, даже приняв за данность этот факт, нельзя с полным правом говорить о сборнике обычаев – фиксация обычая властью в письменной форме и придание ему общеобязательного значения означает его переход в качественно новую ипостась – нормативного правового акта [4, с. 66–67].
Развитие феодальных отношений, образование централизованного государства требовали значительной переработки всей правовой системы, целью которой было бы укрепление самодержавной власти. Законодатель стремится взять под свой контроль применение обычаев, обеспечивая правовой защитой или сужая сферу их применения. Так, Русская Правда упорядочивает обычай кровной мести (ст. 1) и ордалии (ст.ст. 21, 22). Но в Русской Правде упоминается еще и круговая порука, о которой косвенно говорит обязанность коллективной ответственности общины (ст.ст. 3–8). Эти нормы вполне можно рассматривать как санкционирование поруки властями, что было удобно для законодателя.
В семейных и имущественных отношениях, в особенности среди крестьянства, общественные феномены все еще играют довольно важную роль. Так, на основании обычаев и религиозных традициях производятся действия по подготовке к венчанию – погляд (смотрины), пропоины, кладка (предбрачный взнос за невесту) и др.; значительную роль общественные феномены играют при разделе крестьянского имущества между родственниками. XV - середина XVII вв. – вытеснение государством обычного права из юридической практики. С объединением Руси под властью московских князей в правовом развитии государства происходят изменения. Наиболее полно это стремление проявилось в Соборном уложении 1649 г. До этого момента законодательство носило ярко выраженный казуистичный характер, не касаясь самых оснований государственного порядка. Закон действовал наряду с обычаем, но теперь в заметной мере потеснил и подчинил себе обычное право [5, с. 173].
Нормы, регулировавшие порядок осуществления кровной мести, проведения некоторых процессуальных действий, таких, например, как присяга, ордалии, соприсяжничество,
порядок оценки показаний свидетелей и т.д. – все это относится к древнейшим нормам обычного права восточных славян. Но времена менялись. Славяне становились христианами, что, несомненно, сказывалось на нравственной сути человека, княжеское законодательство наби- рало силу. В древнейший период истории России право было представлено в основном нормами обычного права. Но, если нынешние договоры не создают нового права и просто применяют существующие нормы, то у древних договоров иная роль. Они восполняли правотворческую функцию [6, с. 7].
Любое первобытное общество, достигая определенной ступени своего развития, неизбежно подходит к необходимости формирования и письменного закрепления основных правил поведения и общежития. В противном случае хаос в первобытной общине приведет к ее уничтожению и распаду. И, как показывает исторический опыт, единственным видом таких правил, которые бы регулировали все стороны жизни общины, были обычаи. Именно соблюдение правового обычая, основанного на многовековом опыте выживания, гарантировало необходимый порядок, целостность и безопасность общины в борьбе с внешними врагами и стихийными силами природы. Соблюдение обычаев, по мнению В.Н. Кудрявцева, было обусловлено объективной необходимостью выживания рода, общины, семьи в непрогнозируемых природных и социальных, всегда достаточно сложных условиях [7, с. 46].
Древнейшие процессы объединения религиозных и правовых начал были заторможены и прерваны в эпоху становления особых подсистем в политической системе общества. Это было обусловлено началом формирования первичных политических структур, предгосу-дарств и ранних государств, с появлением писаного источника права – закона, о принудительном обеспечении которого заботился его создатель – князь или царь. Только применительно к таким обстоятельствам можно считать, что право первоначально возникает и развивается как самостоятельная отрасль знания. Все это может быть, и верно, но относится не к первоначальному происхождению права как особого нормативного социального образования, а к возникновению политизированного источника права – закона, официально фиксированного, писаного нормативно-правового акта.
Список литературы Легализация ограничительных синкретических норм в законодательстве Древней Руси
- Полищук Н.И. Эволюция идеи права и правовые отношения: вопросы теории и практики. СПб., 2005.
- EDN: QXFGNL
- Першин А.И. Проблемы нормативной этнографии / Исследование по общей этнографии. М., 1979.
- Мальцев Г.В. Очерки истории раннего права и государства: монография. М.: Изд-во РАГС, 2010.
- EDN: QRVJWT
- Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005.
- Вяткина Ю.Ю. История возникновения и развития обычая в российском праве / Актуальные вопросы современной науки. 2014. № 33.
- EDN: SAAXEJ
- Рахманин А.И. Правовые нормы древней Руси IX-XIII вв / Аналитика культурологии. 2014. № 30.
- EDN: TDUIQX
- Гиоргиевский Е.В. К вопросу об обычном праве и его основных признаках / Сибирский юридический вестник. 2009. № 3.