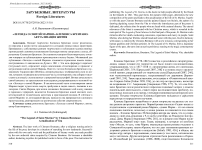"Легенда о святой Марине" Клеменса Брентано: актуализация жития
Автор: Васкиневич Анжелика Игоревна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Позднее творчество Клеменса Брентано после религиозного перелома в жизни поэта складывается в ситуации поиска новых ориентиров. Примирение с собственным ранним творчеством и публикация художественных произведений становятся возможными благодаря новому авторскому статусу, обретаемому Клеменсом Брентано. Он становится автором-благотворителем, отчисляя гонорары за публикующиеся произведения в пользу бедных. Мотивацией для публикации «Легенды о святой Марине» становится стремление помочь людям, пострадавшим от наводнения на Дунае в 1841 г. Эта цель формирует паратекст (титульный лист), определяет новую композицию стихотворения и приводит к актуализации жития святой Марины. Вместе с поэтом Клеменсом Брентано и художником Эдуардом фон Штейнле, автором рисунка с изображением сцен из жития, которому посвящена вступительная часть стихотворения, она собирает милостыню для людей, столкнувшихся с природной катастрофой. Вечная актуальность святой связана с ее христианским милосердием, раскрывающимся в основной части «Легенды о святой Марине». В заключительной части стихотворения святая Марина творит чудеса после смерти, пробуждая в людях совесть, покаяние и милосердие. Святая Марина, при жизни делившая с бедняками хлеб и воду, жившая в гармонии с природой, наделяется Клеменсом Брентано новой миссией, соответствующей ее человеческим качествам и христианской позиции. В «Легенде о святой Марине» из легендарной фигуры прошлого она превращается в активную просительницу, реагирующую на трагические события современности.
Романтизм, брентано, легенда о святой марине, житие, автор-благотворитель
Короткий адрес: https://sciup.org/149141335
IDR: 149141335 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-310
Текст научной статьи "Легенда о святой Марине" Клеменса Брентано: актуализация жития
Клеменс Брентано (1778-1842) известен в российском литературоведении, однако позднее его творчество не было понято исследователями, утверждавшими, что к 1817-1818 гг. литературная жизнь его окончилась [Берковский 2001, 354; Карельский 2007, 246] и уступила место «религиозной мании», разрушившей его творческие силы [Карельский 2007, 246], или «католической пропаганде», изуродовавшей его дарование [Берковский 2001, 354]. Такое представление, восходящее к «Романтической школе» Генриха Гейне [Гейне 1958, 226], до сих пор не преодолено, несмотря на возражения С.С. Аверинцева [Аверинцев 1996, 277]. То, что сам Клеменс Брентано после религиозного перелома поднимает вопрос о смысле писательской деятельности, ставит перед исследователями проблему поиска новых подходов к ее оценке, учитывая изменившуюся авторскую концепцию. Позднее творчество Клеменса Брентано нуждается в серьезном пересмотре и непредвзятом изучении.
Клеменс Брентано испробовал в своем творчестве на разных его этапах разные авторские стратегии. Первый роман писателя «Годви» вышел с подзаголовком «одичавший роман Марии», однако Мария - это не совсем псевдоним писателя, поскольку в конце романа он появляется под своим именем - Клеменс Брентано. Из биографии автора мы знаем, что он «передвинул» свой день рождения с 9-го на 8-е сентября, на Рождество Богородицы, Девы Марии [Аверинцев 1996, 281], но в романе имя Мария носит рассказчик, Марией зовут мать Годви, женщину, в которую он влюблен зовут Молли, то есть, тоже Мария, имена ряда героев романа отсылают к Священной истории, таким образом, что это дает основания критикам подозревать раннего Брентано в кощунстве [Schulz 1983, 436], в общем, мы видим игру автора с персонажами, смыслами (в том числе, католическими) и читателем. Другая авторская стратегия была реализована в сборнике «Волшебный рог мальчика» (1806-1808), подготовленном Клеменсом
Брентано совместно с Ахимом фон Арнимом (1781-1831). Здесь авторы сборника предстают как собиратели текстов (не только фольклорных), вольно обрабатывая их, что вызывает полемику вокруг этого издания.
Однако в поздние годы у Брентано вызревает и еще одна авторская стратегия. Автор-благотворитель - тот авторский статус, который Клеменс Брентано выбирает для себя как приемлемую стратегию примирения с собственным художественным творчеством после религиозного перелома и смерти Анны Катарины Эммерик (1774-1824), при которой он объявил себя «писцом» (Schreiber), но оказался мистификатором, насыщающим записи ее видений материалами из других источников [Engling 2009, 152— 153,214-215].
В 1823 г. Брентано познакомился с Иоганном Фридрихом Бёмером (1795-1863), немецким библиотекарем и историком, которому в 1825 г. он оставил рукописи своих произведений («Романсы о Розарии», «Рейнские сказки», «Итальянские сказки»), Бёмер убеждал Брентано издать эти тексты, и в 1826 г. Брентано пишет ему: «...что мне, Господи помилуй, делать с этими накрашенными надушенными туалетными грехами моей нехристианской юности? <.. .> Желание что-либо опубликовать - это тоже иллюзия, когда что-то готово, становишься умнее и выбрасываешь это или высмеиваешь. Если бы можно было выручить что-то для бедных, но получаешь лишь отвращение, раздражение, скуку, смущающие комплименты, ругательные рецензии, и все деньги достаются книготорговцу, а ты становишься для многих поколений притчей во языцех. <...> Единственное, что могло бы меня к этому подвигнуть, это если бы от этого была какая-то выгода школе для бедных, сам я за это и от этого ничего не требую» [Brentano 2012, 249-250]. В дальнейшем Брентано продолжает настаивать на издании сказок исключительно с благотворительными целями, однако на титульном листе прижизненного издания сказки «Гокель, Хинкель и Га-келея» (1838) подобной информации опубликовано не будет, зато она появится на титульном листе первого тома посмертного двухтомного издания сказок 1846/47 г. - «на благо бедняков, согласно последней воле автора» [Brentano 1846-1847, I]. Пожертвование гонораров на цели христианского милосердия, в пользу бедняков, было значимым вкладом Брентано в благотворительную деятельность, и, как отмечает Гюнтер Шольц, отличало его самосознание от самосознания Гёте, Шиллера и других авторов, стремившихся утвердиться в аристократическом обществе [Scholz 2012, 97-103].
«Легенду о святой Марине», о которой далее пойдет речь и которая также относится к позднему творчеству автора, Клеменс Брентано тоже сначала не хотел издавать, хотя Луиза Гензель (1789-1876) пыталась склонить его к публикации в благотворительных целях [Hildmann 2004, 54]. Он согласился на публикацию лишь ради того, чтобы вырученные средства пошли в пользу пострадавших от наводнения на Дунае, произошедшего в конце января - начале февраля 1841 г. Король Баварии Людвиг I объявил о сборе средств в помощь пострадавшим от этого природного бедствия, при-

зывы к этому появились и в газетах, и Эмилия Линдер убедила Клеменса Брентано опубликовать свое стихотворение в благотворительных целях.
Эмилия Линдер (1797-1867) - швейцарская художница и меценатка, поздняя любовь Клеменса Брентано, с которой он познакомился в середине октября 1833 г. в ателье художника Иозефа Шлотхауера (1789-1869) [Engling 2009, 87], в доме которого Брентано жил с 10 октября 1833 г. [Vordermayer 2004, 149], интересовалась его религиозными сочинениями, он же пытался обратить ее в католичество. Именно ей Брентано ранее подарил на день рождения рисунок Штейнле с изображением жития святой Марины.
В ноябре 1838 г. Клеменс Брентано пишет из Мюнхена Эдуарду фон Штейнле в Вену: «В том, что я пишу Вам только сейчас, отчасти виноват Ваш талант. Ваш рисунок святой Марины, который я послал барышне Линдер на ее день рождения в Регенсбург, так невероятно понравился ей, что я, несмотря на множество другой работы, начал стихотворную обработку этой легенды, не без успеха и не без мук, а именно, это будет примерно 150 строф. Около 120 уже готово» [Brentano 2016, 178-179].
Основная часть произведения была написана в 1838 г. (начало работы над стихотворением датируется осенью 1837 г. [Hildmann 2004, 54]), в дополненном виде она вышла в 1841 г. в Мюнхене со следующей надписью на титульном листе: «Легенда о святой Марине, стихотворение Клеменса Брентано, вдохновленное рисунком художника Эдуарда Штейнле из Вены и напечатанное по требованию на благо пострадавших от Дунайского ледохода 1841 года в епархии Регенсбурга. Цена 18 франков. Мюнхен. Книгу можно приобрести в литературно-артистическом салоне издательства Котты, на Променаденштрассе» [Brentano 1841]. В посмертном издании собрания сочинений Клеменса Брентано (1852-1855), где «Легенда о святой Марине» открывает вторую книгу первого тома, носящую подзаголовок «Легенды», где собраны разные жития в поэтической обработке автора, эта надпись отсутствует; в современных изданиях надпись включается в текст «Легенды о святой Марине».
Надпись на титульном листе издания 1841 г. является важным компонентом текста и заслуживает внимания. Паратекст (титульный лист) информирует читателя не только об авторе и названии произведения, не только обозначает жанровую характеристику, содержащуюся в названии, отсылая к жанру жития, но и указывает на источник вдохновения, создавая интертекстуальное, интермедиальное, интерсубъектное пространство, а также на цель публикации, носящей благотворительный характер. Паратекст несет не только информативную, но и побудительную функцию, приглашая читателя приобрести книгу, и, таким образом, внести свой вклад в дело христианского милосердия.
«Легенда о святой Марине» Клеменса Брентано состоит из трех частей. Композиция отражает замысел Брентано, окончательно сложившийся ко времени издания текста и связанный с откликом на события современности. Общий объем «Легенды о святой Марине» -141 строфа (стро-

фы представляют собой четверостишия), объем частей, соответственно, 8 строф, 110 строф и 23 строфы. Рифмовка перекрестная. «Легенда о святой Марине» Клеменса Брентано написана пятистопным ямбом, размером, утвердившимся в немецкой литературе в середине XVIII в. [Гаспаров 2003, 158]. Таким образом, Брентано подвергает средневековый материал поэтической модернизации.
Первая часть, с которой, собственно, и начинается текст - стихотворное посвящение художнику Эдуарду фон Штейнле (1810-1886). Клеменс Брентано познакомился с ним в августе 1837 г, тоже у Шлотхауера. По словам Штейнле, при первой же встрече они с Клеменсом Брентано стали друзьями [Bernus, Steinle 1909, 17]. Художнику, тогда еще малоизвестному, на тот момент было 27 лет, поэту - 58. В 1838 г. Штейнле пробыл в Мюнхене с 3 августа по 18 октября, работая над фресками, и постоянно общался с Брентано, который привлек художника к совместной работе. Впоследствии произведения и личность Клеменса Брентано послужат для Штейнле источником вдохновения. Штейнле создаст ряд рисунков к «Рейнским сказкам» и другим произведениям Клеменса Брентано, в 1841 г. напишет его портрет, а после его смерти - как дань памяти - рисунок, где Брентано изображен в виде паломника у поклонного креста (1842) [Bernus, Steinle 1909].
Но в случае с «Легендой о святой Марине» было наоборот, хотя и этот рисунок возник по заказу (как подарок Эмилии Линдер) и не без влияния Клеменса Брентано. Прощаясь с художником, уезжавшим из Мюнхена, Клеменс Брентано подарил ему в октябре 1838 г. одно из изданий Вацлавского пассионаля 1513 г. (Аугсбург, издательство Ханзена Отмара) из своей библиотеки [Bernus, Steinle 1909, 19]. Этим изданием Штейнле пользовался в дальнейшем для разработки образов святых, в том числе, вероятно, и работая над рисунком, изображающим мотивы из жития святой Марины. Этот рисунок и стал непосредственным импульсом для создания Клеменсом Брентано «Легенды о святой Марине».
Но первая часть «Легенды о святой Марине» - это не просто выражение признания, похвала художнику. В посвящении упоминается наводнение на Дунае, и Брентано обыгрывает в связи с этими событиями происхождение Штейнле, который был родом из Вены и которому Дунай когда-то «пел колыбельную». Теперь река грозит «разбить оковы льда», а ее дочь, беда (или нужда - die Not) стенает на ее берегах. И ей, беде, нужде, «мы отдаем эту песню», чтобы молиться и просить милостыню. Здесь важно это «мы» (wir), искусство предстает как совместное делание; картина и песня, объединившись, идут просить хлеба:
Wir geben ihr das Lied urns Brot zu singen;
Vergelt’s Gott! - Horch, zu beten lehrt die Not.
Und wird das Mitleid ihr dein Bild auch bringen,
Geht Bild und Lied vereint wie Kunst nach Brot [Brentano 1841, 4].

Однако не только художник, давший импульс возникновению стихотворения, вовлекается в благотворительную миссию, но и сама святая Марина, к которой поэт взывает о помощи пострадавшим людям:
Marina! hilf der Donau singen, wiegen,
Sieht sie die Not, ihr ausgesetztes Kind,
Im Schlummer lachelnd dir am Herzen liegen,
Dann bricht das Eis und taut dem Armen lind [Brentano 1841, 4].
Внезапно обретает новый, актуальный смысл имя святой Марины -«морская», связанная с водной стихией, она может усмирить ее, ведь любовь святой может мягко растопить не только сердца, но и скопившийся лед на Дунае. Святая Марина вовлекается, таким образом, в современные события, становится помощницей в решении насущных проблем, стихотворение, посвященное ей, выступает средством собрать материальную помощь пострадавшим от наводнения. Житие святой Марины представлено в стихотворении Клеменса Брентано не просто как поэтически обработанная средневековая легенда. Актуализация жития осуществляется в связи с современными Клеменсу Брентано событиями. Святая Марина творит дела милосердия спустя столетия после своей смерти, помогая поэту собрать милостыню для жертв стихии.
Призывом к святой Марине заканчивается посвящение Эдуарду фон Штейнле, далее следует основная часть - поэтическое изложение жития святой Марины.
Что касается самого жития святой Марины, оно известно и в католической, и в православной традициях. В православной традиции память святой отмечается 12 февраля, история о ней у святителя Димитрия Ростовского (в «Житиях святых») озаглавлена как «Житие преподобной Марии, подвизавшейся в мужском образе под именем Марина, и отца ее преподобного Евгения». В католической традиции память святой Марины отмечается 17 июля. Житие святой Марины зафиксировано в разных средневековых источниках. Клеменс Брентано мог пользоваться для своей поэтической обработки жития святой Марины целым рядом изданий, имевшихся в его обширной библиотеке. Житие святой Марины входит в «Жизнеописания Отцов» (Vitae patrum), критическое издание которых было подготовлено иезуитом Херибертом Росвейде (Heribert Rosweyde, 1569-1629) и вышло в 1615 г. в Антверпене. В библиотеке Клеменса и его брата Кристиана Брентано была эта книга в издании 1691 г, в немецком переводе М. Ротлера (№ 947 в каталоге 1853 г.) [Katalog 1853, 57]. Наибольшую известность житие святой Марины получило благодаря популярному во всей Европе и за ее пределами собранию житий святых - «Золотой легенде» Иакова Ворагинского (лат. Legenda Aurea, название, данное автором - «Legenda Sanctorum»), написанной на латинском языке около 1260 г, а затем переведенной на многие европейские языки, в том числе, на немецкий. В библиотеке братьев Брентано было латинское издание «Золотой легенды» 1492 г.

(№ 937 в каталоге 1853 г: (Jac. de Voragine) legenda sanctorum sive historia Lombardica) [Katalog 1853, 56]. Также житие святой Марины входило в наиболее популярное в Германии собрание житий святых на немецком языке, прозаический пассиональ (мартиролог, католический аналог православных святцев) «Жития святых» (Der Heiligen Leben), называемый также Вацлавским пассионалем (Wetzel-Passional), поскольку он был составлен в годы правления Вацлава IV, короля Германии (с 1376 по 1400 гг), около 1400 г. в нюрнбергском монастыре доминиканцев, на основе различных источников [Kuhlmann 2009, 159-161]. В библиотеке Клеменса Брентано были издания 1507 и 1521 гг. (№ 942, 944 в каталоге 1853 г.) [Katalog 1853, 57]. Аналогичное издание Клеменс Брентано подарил Эдуарду фон Штейнле. Другие возможные источники рассматриваются в статье Джона Найта Бостока [Bostock 1924] и в главе, посвященной «Легенде о святой Марине», у Бернарда Гайека [Gajek 1971, 347-355].
Сюжет жития вкратце таков: В Вифинии (в Малой Азии) в V в. жил благочестивый человек, которого звали Евгений. После смерти жены он решил уйти в монастырь и взять с собой дочь Марину (в некоторых источниках - Марию), которую они выдали за мальчика. Ее принимают в мужской монастырь, где она жила под именем брата Марина. Однажды брата Марина оклеветала женщина, сказавшая, что он отец ее ребенка. Марину изгоняют из монастыря, и она воспитывает подброшенного ребенка у монастырских стен. Впоследствии брата Марина вновь принимают в обитель, после смерти Марины раскрываются все тайны. Все каются, признают Марину святой, у ее гроба совершаются чудеса.
Брентано довольно строго придерживается основного сюжета, дополняя и модернизируя его, вписывая житие святой в Священную историю и украшая его романтическими поэтизмами.
Сакральное пространство жизни Марины связано с монастырем, где происходит и воспитание Марины. Она воспринимает обрядовую сторону христианской жизни, где тремя главными событиями для нее становятся Рождество, смерть и Воскресение Христа: она украшает ясли, гроб и красит яйца на Пасху. Но «Легенда о святой Марине» размыкает это монастырское пространство. Вся природа становится включена в сакральное пространство жития. К девочке, находящейся в мужском монастыре, в паломничество отправляются времена года, чтобы принести свои дары и помочь ей украсить церковь в праздничные дни. Марина, получающая благословение от аббата, сравнивается с примулой, наклоняющейся, чтобы впитать небесную росу. Важно при этом не только то, что примула (Primel) - первый весенний цветок, но и перекличка с встречающимся далее в тексте названием молитвенного часа - Prim, час первый. Это час, в который вспоминается поношение и оплевание Христа («da er verhohnt war und verspieen» [Brentano 1841, И]), в кеносисе своем, добровольном умалении воплотившегося и сошедшего на землю Бога. Подобно этому, и примула пригибается к земле [Brentano 1841, 6]. Здесь уже намечается мотив несправедливого поношения, которое придется испытать и выросшей
девочке в ее подражании Христу. У могилы отца девочка сравнивается с розмарином, здесь важна и игра слов (Marina - Rosmarin), и символика растения, связанная со смертью; вероятна отсылка к стихотворению «Розмарин», включенному в сборник «Волшебный рог мальчика», где розмарин имеет именно такое символическое значение; такой прием (аллюзии к этому сборнику) часто встречается в разных произведениях Брентано, например, в его сказках. Когда Марина воспитывает ребенка, прививая ему христианское отношение к людям, уча молиться за грешников, она мастерит для ребенка к Рождеству Христову вертеп из природных материалов, которые ей приносят ласточки и пчелы. Мир природы вовлечен в историю жития святой Марины в обработке Брентано.
Когда Марину как брата Марина изгоняют из монастыря за мнимый грех, она и за монастырскими стенами конструирует пространство Церкви, выстраивающееся вокруг Христа. Марина делит хлеб и воду с другими страждущими [Brentano 1841, 10], соблюдает молитвенные часы: Утреню (Matutin), Первый час (Prim), Третий час (Terz), Шестой час (Sext), Девятый час (Non), Вечерню (Vesper), Комплеторий (Complet), соответствующий Повечерию, руководствуясь значением богослужений суточного круга [Brentano 1841, 11]. Семикратное молитвенное обращение к Господу восходит к Псалму 118: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс. 118: 164), этот псалом начинается со слов «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» (Пс. 118: 1), и житие Марины обнаруживает с ним ряд перекликающихся мотивов: мотив хранения чистоты в юности (Пс. 118:9), мотив несправедливого поношения и посрамления (Пс. 118: 22), упования на Бога (Пс. 118: 166) и др.
Судьбы героев вплетены в библейскую историю со времени сотворения мира и соотносятся с ней. Давая обещание отцу хранить тайну, Марина противопоставляет себя нарушившей тайну Еве; мать ребенка сравнивается с библейской Агарью (служанкой Сарры, наложницей Авраама, изгнанной с сыном Измаилом из дома Авраама). «Твой грех - одновременно грех мира» («Denn deine Schuld ist gleich der Schuld der Welt») [Brentano 1841, 18], - говорит аббат монаху Марину.
Когда Марине подбрасывают младенца, рожденного оклеветавшей ее женщиной, она произносит те же слова, что она говорила на Рождество Христово [Brentano 1841, 6, 12], неточно воспроизводящие интроит к рождественской мессе или рождественское песнопение на его основе, восходящие к книге пророка Исайи: «Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его» (Ис. 9: 6). Этот мотив, важный и в поздней редакции сказки «Гокель, Хинкель и Гакелея», приобретает здесь особое значение. Марина видит в посланном ей ребенке, которого все окружающие воспринимают как плод греха, образ Божий, и радуется его рождению так же, как Рождеству Христову. Когда она в третий раз поет эти слова, уже с ребенком на руках встречая Рождество Христово, сердца монахов смягчаются, и они просят аббата впустить брата Марина обратно в обитель [Brentano 1841, 14-15].
После смерти Марины следует, как и в традиционных житиях, сцена покаяния монахов, аббата и одержимой матери ребенка, появляющейся на могиле святой Марины. Но Брентано вносит и не свойственные традиционному житию мотивы. После смерти Марины к ее могиле приходит множество животных, слетаются птицы и пчелы, склоняются растения, тело ее благоухает. Создается картина вселенской гармонии, характерен выбор растений и животных, имеющих символический характер - это пальмовые ветви, напоминающие о входе Иисуса Христа в Иерусалим, ягнята, ассоциирующиеся с Христом - агнцем Божиим, верблюды, на которых прибыли ко Христу волхвы, голуби, символизирующие снисхождение Святого Духа и т.п. Брентано усиливает не только символизм, но и экспрессивность финальной сцены основной части, вводя образ обезумевшей матери ребенка, мятущейся, бушующей, с яростным выражением лица и растрепанными волосами, успокаивающейся лишь когда ребенок связывает ей руки поясом святой Марины - от прикосновения к реликвиям она исцеляется от безумия [Brentano 1841, 24-25].
Деятельная христианская любовь, милосердие, проявляемое самой святой Мариной и пробуждаемое ею в людях - вот основной мотив жития в обработке Клеменса Брентано (для сравнения: в агиографических источниках Брентано акцент делается на стойкости Марины, осознании своей греховности теми, кто ее оболгал и изгнал из монастыря, и чудесах у гроба святой; у Димитрия Ростовского подражать предлагается ее мученичеству, твердости и терпению). Именно эти христианские качества делают ее подходящей фигурой для роли просительницы, которой наделяет ее Брентано.
К основной части жития Брентано добавляет и дополнительную часть, отсутствующую в традиционных житиях и носящую латинское название Conscientia (Совесть). Conscientia (Совесть) - такое имя дают кающейся матери ребенка, которого она когда-то подбросила святой Марине, так же называют и песню, которую она поет и в которой покаяние грешницы переходит в хвалу святой Марины. Эта песня достигает и отца подброшенного ребенка, и тот приходит к могиле святой Марины и приносит покаяние. Потом мать ребенка умирает, и наступает финал, традиционный для жития - могила святой Марии становится местом паломничества и покаяния многих людей.
Характерна особая роль, которую Клеменс Брентано придает песне. В основной части песня святой Марины пробуждает милосердие в монахах. В третьей части покаянная песня передается из уст в уста, даже когда мощи святой Марины уже покоятся в Венеции, преображая людей. В посвящении Штейнле песня и картина, объединившись, просят милостыни для бедняков.
Искусство, пробуждающее милосердие, автор-благотворитель - такова христианская концепция творчества, складывающаяся у позднего Брентано. Переосмысление жития приводит к его актуализации автором. Святая Марина и после смерти проявляет деятельную любовь и христианское милосердие, участвуя в новой благотворительной миссии вместе с поэтом и

художником. Так воспринимает святость Клеменс Брентано: для него она актуальна, действенна, способна проявить себя в непосредственной связи с современностью.
Список литературы "Легенда о святой Марине" Клеменса Брентано: актуализация жития
- Аверинцев С.С. Поэты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 364 с.
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб: Азбука-классика, 2001. 512 с.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М: Фортуна Лимитед, 2003. 272 с.
- Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Л.: Художественная литература, 1958. С. 143-277.
- Карельский А.В. Немецкий Орфей. М.: РГГУУ 2007. 608 с.
- Bernus A. v., Steinle A.M. v. Clemens Brentano und Edward von Steinle. Dichtungen und Bilder. Kempten und München: Kösel'sche Buchhabdlung, [1909]. 216 s.
- Bostock J.K. Brentano's "Legende der heiligen Marina" // The Modern Language Review. 1924. Vol. 19. № 2. P. 195-199.
- Brentano C. Legende von der heiligen Marina. München: Cotta, 1841. 31 s.
- Brentano C. Die Märchen des Clemens Brentano. Zum Besten der Armen nach dem letzten Willen des Verfassers herausgegeben von Guido Görres. In 2 Bdn. Stuttgart und Tübingen: Cottaischer Verlag, 1846-1847.
- Brentano C. Sämtliche Werke und Briefe: Historisch-kritische Ausgabe, Frankfurter Brentano-Ausgabe, veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift: In 38 Bd. Bd. 35. Briefe VII (1824-1829). Stuttgart: Kohlhammer, 2012. 718 s.
- Brentano C. Sämtliche Werke und Briefe: Historisch-kritische Ausgabe, Frankfurter Brentano-Ausgabe, veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift: In 38 Bd. Bd. 37,1. Briefe IX (1836-1839). Stuttgart: Kohlhammer, 2016. 407 s.
- Engling C. Die Wende im Leben Clemens Brentanos. Folgen der Begegnung mit Anna Katharina Emmerick. Würzburg: Echter Verlag, 2009. 246 s.
- Gajek B. Homo poeta: zur Kontinuität der Problematik bei Clemens Brentano. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1971. 629 s.
- Hildmann Ph.W. "Clemens Brentano hat dieß schöne Lied gedichtet". Joseph von Eichendorffs verborgenes Debüt in den "Historisch-politischen Blättern" // Literatur in Bayern. Vierteljahresschrift für Literatur, Literaturkritik und Literaturwissenschaft. 2004. № 76. S. 52-61.
- Katalog der nachgelassenen Bibliotheken der Gebrüder Christian und Clemens Brentano. Köln: Verlag nicht ermittelbar, 1853. 232 s.
- Kühlmann W. (Hg.) Killy Literaturlexikon. In 13 Bdn. Bd. 5. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009. 652 s.
- Scholz G. Clemens Brentano 1778-1842: Poesie, Liebe, Glaube. Münster: Aschendorff Verlag, 2012. 144 s.
- Schulz G. Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration. Teil 1. Das Zeitalter der Französischen Revolution: 1789-1806. München: Verlag C.H. Beck, 1983. 763 s.
- Vordermayer M. ".. .die Zeit, wo Clemens Brentano wie ein Komet durch diese Münchener Gesellschaft fuhr". Vermischtes aus den Jahren 1833 bis 1842 // Romantik und Exil. Festschrift für Konrad Feilchenfeldt. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004. S. 149-160.