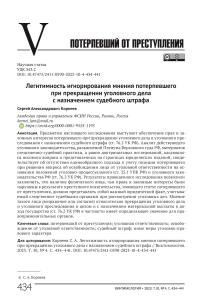Легитимность игнорирования мнения потерпевшего при прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа
Автор: Корнеев С.А.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 4 т.10, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом настоящего исследования выступает обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). Анализ действующего уголовного законодательства, разъяснений Пленума Верховного суда РФ, материалов следственно-судебной практики, а равно доктринальных исследований, касающихся искомого вопроса и представленных на страницах юридических изданий, свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к учету позиции потерпевшего при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности на основании положений уголовно-процессуального (ст. 25.1 УПК РФ) и уголовного законодательства РФ (ст. 76.2 УК РФ). Результаты проведенного исследования позволили заключить, что наличие физического лица, чьи права и законные интересы были нарушены в результате преступного посягательства, имеющего статус потерпевшего от преступления, должно представлять собой важный юридический факт, учитываемый следственно-судебными органами при рассмотрении уголовных дел. Мнение такого лица (возражение или согласие) относительно прекращения уголовного дела и уголовного преследования в целом и с назначением материальной выплаты в доход государства (ст. 76.2 УК РФ) в частности имеет определяющее значение для правоприменительных органов.
Потерпевший от преступления, уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф, иные меры уголовно-правового характера
Короткий адрес: https://sciup.org/14129578
IDR: 14129578 | УДК: 343.2 | DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10-4-434-441
Текст научной статьи Легитимность игнорирования мнения потерпевшего при прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа
Права и свободы человека и гражданина регламентированы Конституцией Российской Федерации и находятся под защитой государства. Как известно, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого члена социума. К сожалению, в обществе, которое представляет собой совокупность индивидов, объеденных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности, имеют место быть случаи антисоциального (антиобщественного), делинквентного, преступного (криминального) поведения. Последнее представляет собой акт, выраженный в форме действия или бездействия, нарушающий требования норм права. Именно поэтому охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств является первостепенной задачей отечественного уголовного законодательства. В то же время следует констатировать тот факт, что интересы потерпевшего, как субъекта уголовно-правовых отношений, должным образом не урегулированы нормами уголовного закона.
Проблема обеспечения прав и свобод потерпевшего от преступления является предметом ряда исследований, в том числе фундаментального характера, представленных на страницах юридических изданий. Представители доктрины уголовного права и криминологии подвергают всестороннему анализу комплекс вопросов, связанных с виктимологической безопасностью жертв преступлений [1], уголовно-правовой охраной потерпевшего [2; 3], а равно совершенствованием уголовной политики в этом направлении [4], теоретико-прикладными проблемами, возникающими в процессе его примирения с лицом, нарушившим уголовно-правовой запрет (ст. 76 УК РФ) [5; 6], необходимой защитой прав и законных интересов потерпевшего в результате совершения конкретных деяний, содержащихся в Особенной части УК РФ [7; 8; 9], уголовно-правовым механизмом, обеспечивающим возмещение причиненного преступлением вреда потерпевшимв отечественном [10] и зарубежном законодательстве [11] и др.
Не смотря на солидный объем представленного эмпирического материала, ряд вопросов, связанных с необходимым обеспечением прав, свобод и законных интересов потерпевшего в рамках реализации института освобождения от уголовной ответственности остается без должного внимания. Прежде всего, речь идет о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования соответственно с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). По справедливому убеждению Н. С. Луценко, реализация судебного штрафа должна иметь большое значение и ценность для уголовного права и прежде всего ввиду удовлетворения интересов всех участников общественных отношений, возникших в связи с юридическим фактом в виде совершения преступления: для потерпевшего — оперативная и достаточная компенсация нарушенных прав; для лица, нарушившего уголовно-правовой запрет — освобождение от уголовной ответственности, то есть полный отказ государства в лице уполномоченных органов государственной власти от порицания (осуждения); для государства — пополнение бюджета, сокращение числа лиц, имеющих судимость, ослабление нагрузки на судебные органы и уголовно-исполнительную систему и т. д. [12, с. 4]
К сожалению, в настоящее время в ряде случаев удовлетворению подлежат потребности лишь двух субъектов из трех— государства и лица, совершившего преступление. Представляется, что судебный штраф является ярким примером легитимного игнорирования интересов потерпевшего, как участника уголовно-правовых отношений. Исследование искомого вопроса обладает повышенной степенью актуальности и требует всестороннего углубленного изучения.
Материали методы исследования
Настоящее исследование, посвященное обеспечению прав и законных интересов потерпевшего при реализации института освобождения от уголовной ответственности, базируется на положениях действующего уголовного законодательства, материалах следственно-судебной практики, а равно доктринальных разработках ученых в области уголовного права и криминологии.
Методологическая основа исследования представлена диалектическим методом научного познания. В процессе исследования использовались также применяемые в гуманитарных науках частно-научные методы познания, позволившие исследовать легитимность игнорирования мнения потерпевшего при прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.
Результаты
Наличие физического лица, чьи права и законные интересы были нарушены в результате преступного посягательства, имеющего статус потерпевшего от преступления, должно представлять собой важный юридический факт, учитываемый следственно-судебными органами при рассмотрении уголовных дел. Мнение такого лица (возражение или согласие) относительно прекращения уголовного дела и уголовного преследования в целом и с назначением материальной выплаты в доход государства (ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в частности является определяющим для правоприменительных органов.
Обсуждение результатов
В соответствии с действующим уголовным законодательством, для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа достаточно констатации факта совершения преступления небольшой или средней тяжести впервые и постпреступного социально-одобряемо-го поведения лица, выражающегося в возмещении ущерба или ином заглаживании причиненного вреда и свидетельствующего об уменьшении (утрате) его общественной опасности (ст. 76.2 УК РФ).
Доктринальное толкование рассматриваемой нормы УК РФ свидетельствует о дефиците законодательного внимания правам и законным интересам потерпевшего. Кроме этого, следует отметить отсутствие в тексте уголовного закона юридического значения мнения потерпевшего, чьи интересы были нарушены в результате преступного посягательства, для уполномоченных органов государственной власти.
В то же время в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда под ущербом в ст. 76.2 УК РФ необходимо понимать «вред имущественного характера, который может быть возмещен в натуре, в денежном эквиваленте, а равно иным законным способом, не ущемляющем права третьих лиц. Очевидно, что далеко не каждый причиненный преступлением ущерб подлежит компенсации в полном объеме. В данном случае действующим законодательством предусмотрен способ не возмещения, а заглаживания вреда, причиненного преступным посягательством. Под ним следует понимать имущественную (материальную) компенсацию морального вреда, оказание необходимой помощи потерпевшему ( курсив наш — С. К. ), принесение ему извинений, принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства»1.
Представленное судебное толкование позволяет прийти к следующему умозаключению. Во-первых, мнение потерпевшего является определяющим в части полноты и достаточности объема компенсированного вреда, причиненного преступлением. И, соответственно, во-вторых, его согласие или возражение относительно освобождения лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является юридически важной составляющей для судебного разбирательства по конкретному уголовному делу.
Контраргументом указанной точки зрения является иная позиция Верховного суда, представленная в обзоре судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. В соответствии с ней согласие потерпевшего не предусмотрено уголовным законом в качестве обязательного условия для освобождения лица от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ2.
Отсутствие однозначного законодательного решения в части обозначенной проблемы является условием и основанием возникновения сложностей в правоприменительной деятельности уполномоченных органов государственной власти.
Так, мировой судья судебного участка № 7 Советского судебного района Кировской области постановил «освободить М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании положений уголовно-процессуального (ст. 25.1 УПК РФ) и уголовного законодательства (ст. 76.2 УК РФ) с назначением меры государственного принуждения в виде судебного штрафа в размере пяти тысяч рублей»3.
В определенный законом период времени представитель потерпевшего обратился в суд высшей инстанции с целью отмены состоявшегося решения и передачи уголовного дела на новое судебное разбирательство. Причиной обжалования постановления явился факт неполного возмещения ущерба (заглаживания вреда) лицом, совершившим преступление, в отношении гражданина, чьи права и законные интересы были нарушены в результате хищения.
Советский районный суд Кировской области оставил постановление мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу потерпевшего без удовлетворения. В ходе разбирательства по уголовному делу уполномоченный орган государственной власти в качестве доводов собственного решения констатировал отсутствие в действующем законодательстве факта обязательности учета мнения потерпевшего для разрешения вопроса в порядке ст. 25.1 УПК РФ. Как отметил суд, «…возра-жение потерпевшего против удовлетворения ходатайства, не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства»1.
Игнорирование мнения потерпевшего при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа имеет место быть во многих примерах из следственно-судебной практики рассмотрения уголовных дел, возбужденных по факту нарушения уголовно-правового запрета, связанного с правами и законными интересами физических лиц2.
Критическая оценка принятых решений не позволяет усомнится в их легальности, потому как заключительные выводы уполномоченных органов государственной власти в полной мере коррелируют с положениями действующего уголовного законодательства. В то же время подобная судебная аргументация выглядит небезупречной.
Непосредственным объектом хищения, предусмотренного ст. 158 УК РФ, являются отношения собственности. В конкретных примерах из судебной практики речь идет, прежде всего, о частной собственности, которая кроме уголовного закона охраняется и Конституцией РФ. Под собственностью, согласно гражданскому законодательству, понимается имущество, хозяин которого имеет право на его владение, пользование и распоряжение (ст. 209 ГК РФ). Таким образом, в результате преступного посягательства на искомые отношения причиняется вред физическому лицу (потерпевшему). Полагаем, что в подобных случаях интересы государства отходят на второстепенный план. Представляется, что мнение потерпевшего от преступления лица должно иметь определяющий характер при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в равной мере, как и при прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).
В иных судебных решениях позиция потерпевшего учитывается, приводится в ходе судебного разбирательства и указывается в постановлении суда. Так, Рудничный районный суд г. Кемерово Кемеровской области постановил «прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере десяти тысяч рублей. Уполномоченный орган государственной власти кроме установления факта совершения преступления средней тяжести впервые, а равно постпреступной позитивной деятельности лица, его совершившего, придал юридическое значение мнению потерпевшего. Суд акцентировал внимание на отсутствии материальных претензий, а также требований неимущественного характера к подсудимому со стороны лица, чьи права и законные интересы были нарушены в результате преступного посягательства. Таким образом, мнение потерпевшего, не желающего привлечения Г. к уголовной ответственности, явилось одним из условий освобождения лица от уголовной ответственности по указанным основаниям»1.
Приведенные, а равно иные примеры из судебной практики, свидетельствуют об отсутствии единства мнений уполномоченных органов государственной власти в части учета позиции потерпевшего при освобождении лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
В теории уголовного права мнения ученых относительно заявленной проблематики подобным образом разделились. Так, в новейших исследованиях, в том числе фундаментального характера, авторы, поддерживая законодательную позицию, отрицают императивное значение мнения потерпевшего для принятия решения о назначении судебного штрафа и освобождении лица от уголовной ответственности [12, с. 4; 13, с. 13].
Другие специалисты имеют сугубо противоположную точку зрения. Так, А. Г. Соловьев полагает целесообразным закрепить на уровне соответствующих разъяснений Верховного суда РФ обязанность уполномоченного органа государственной власти уточнить объективность оценки потерпевшим размера и способа заглаживания вреда и факт отсутствия у потерпевшего подкрепленных справедливыми доводами материальных, а также моральных претензий к обвиняемому [14, с. 148].
Третья группа авторов придерживается позиции об исключении возможности применения норм, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, по делам, где в качестве потерпевшего выступает физическое лицо. Таким образом, искомая мера уголовно-правового характера должна назначаться в случае нарушения интересов государства и неограниченного числа лиц [15, с. 246].
Не вдаваясь в критический анализ представленных доктринальных воззрений, следует признать обоснованность суждения Д. О. Михайлова. Безусловно, в уголовном законе закреплено достаточное количество деяний, посягающих на права и законные интересы личности, общества и государства. При этом суд, как уполномоченный орган государственной власти, компетентен принимать решение об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа на определенных законом основаниях, а равно давать объективную оценку полноты возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда без учета мнения потерпевшей стороны по уголовным делам, направленным против интересов общества и государства.
Полагаем, что наличие физического лица в статусе потерпевшего представляет собой важный юридический факт, а его мнение (возражение или согласие) по поводу освобождения нарушившего его права и законные интересы лица от уголовной ответственности с назначением материальной выплаты в доход государства является определяющим для правоприменительных органов.
Выводы
Проведенный анализ действующего уголовного законодательства, материалов следственно-судебной практики, доктринальных исследований, представленных на страницах юридических изданий, позволил констатировать тот факт, что права и законные интересы потерпевшего при прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением судебного штрафа должным образом не обеспечены.
Решение искомой проблемы видится в установлении если не на уровне норм уголовного законодательства, то на уровне разъяснений постановления Пленума Верховного суда дополнительного условия назначения судебного штрафа при рассмотрении уголовных дел, в которых в роли потерпевшего выступает физическое лицо.
Предложенное решение не порождает конкуренцию норм, регламентирующих виды освобождения от уголовной ответственности, в частности ст. 76 и 76.2 УК РФ, обладает своей актуальностью и востребованностью, в том числе при совершении преступлений, посягающих на несколько объектов уголовно-правовой охраны. Так, например, полагаем целесообразным освобождать лицо от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, с учетом положений уголовно-процессуального (ст. 25.1 УПК РФ) и уголовного законодательства (ст. 76.2 УК РФ), а также мнения потерпевшего.
Заключение
Предложенная модель совершенствования процесса освобождения от уголовной ответственности лица, нарушившего уголовно-правовой запрет, с назначением судебного штрафа исключит его правовую, а равно теоретико-прикладную рассогласованность, поспособствует реализации прав и удовлетворению законных интересов лица, которому причинен ущерб (вред) в результате преступного посягательства.
Список литературы Легитимность игнорирования мнения потерпевшего при прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа
- Mayorov AV. Victimological safety of crime victims. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. [Bulletin of the South Ural State University. Series: Law]. 2007;(28):58-60. (In Russ.).
- Martynenko NE. Criminal-legal protection of the victim: [abstract of dissertation]. Moscow; 2015. 44 p. (In Russ.).
- Nagornaya II. Ensuring the rights and legitimate interests of minors by means of criminal law. Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki [Pravo. Journal of the Higher School of Economics]. 2018;(2):84-102. (In Russ.).
- Martynenko NE. Improvement of criminal-legal protection of the victim - the task of criminal policy of the Russian Federation. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii [Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 2015;(3):10-13. (In Russ.).
- Vladimirova OA. Release from criminal responsibility in connection with reconciliation with the victim: [abstract of dissertation]. Samara; 2015. 22 p.
- Suverov SE. Reconciliation with the victim as a basis for exemption from criminal responsibility: [abstract of dissertation]. Omsk; 2022. 23 p. (In Russ.).
- Levkov DYu. The victim in crimes against justice: [abstract of dissertation]. Moscow; 2017. 31 p. (In Russ.).
- Shikula IR. Criminal-legal protection of the rights and freedoms of the victim being in a helpless state (Russian and foreign experience): [abstract of dissertation]. Moscow; 2021. 39 p. (In Russ.).
- Pikurov NI, Shikula IR. Criminal-legal protection of the rights, freedoms and legitimate interests of persons in a helpless state from violent crimes: [monograph]. Moscow; 2015. 216 p. (In Russ.).
- Slivko NK. Criminal-legal mechanism providing compensation of criminal harm to victims: [abstract of dissertation]. Khabarovsk; 2021. 29 p. (In Russ.).
- Liebmann M. Restorative justice: how it works. London; 2007. 476 p.
- Lutsenko NS. Judicial fine: problems of theory and law enforcement : [dissertation]. Khabarovsk; 2019. 237 p. (In Russ.).
- Murashova AV. Differentiation of a fine in criminal law: [dissertation]. Kursk; 2021. 232 p. (In Russ.).
- Soloviev AG. Judicial fine in Russian criminal proceedings: [dissertation]. St. Petersburg; 2023. 234 p.
- Mikhailov DO. Judicial fine in the criminal law of Russia: [dissertation]. Moscow; 2021. 246 p. (In Russ.).
- Mayorov AV, Novikova KE. The role of the prosecutor in the appointment of punishment in the form of a judicial fine. Vestnik Uralskogo instituta ekonomiki, upravleniya i prava [Bulletin of the Ural Institute of Economics, Management and Law]. 2020;(2):40-44. (In Russ.).