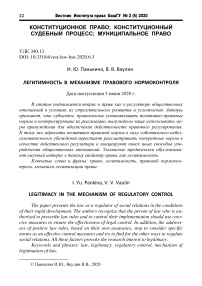Легитимность в механизме правового нормоконтроля
Автор: Панькина Инга Юрьевна, Ваулин Вадим Валерьевич
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право
Статья в выпуске: 2 (6), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о праве как о регуляторе общественных отношений в условиях их стремительного развития и усложнения. Авторы признают, что субъекты, правомочные устанавливать позитивно-правовые нормы и контролирующие их реализацию, вынуждены чаще использовать меры принуждения для обеспечения действенности правового регулирования. К тому же адресаты позитивно-правовой нормы в силу собственного небезосновательного убеждения перестают рассматривать конкретные нормы в качестве действенного регулятора и инициируют поиск иных способов упорядочения общественных отношений. Указанные предпосылки обусловливают научный интерес к такому свойству права, как легитимность.
Право, легитимность, правовой нормоконтроль, механизм легитимации права
Короткий адрес: https://sciup.org/142232135
IDR: 142232135 | УДК: 340.13 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2020.6.3
Текст научной статьи Легитимность в механизме правового нормоконтроля
Концепция легитимности - детально исследуемый в социально-гуманитарных науках феномен - не ограничивается лишь доктринальным признанием. Понятие легитимности успешно встраивается и в практические категориально-понятийные аппараты. Однако отсутствие легально закрепленной конструкции легитимности в ее политико-правовом значении не допускает нормативно-определенного использования данного понятия для регулирования общественных отношений.
Содержательная насыщенность концепции детерминирует оперирование легитимностью на таком юридико-техническом уровне, где разрешаются дилеммы конституирующего для социума характера, корректируется архитектоника государства и осуществляется анализ правовой системы государства на метауровне. Органом, в актах которого отражается исследуемый феномен и выявляется политико-правовой смысл легитимности, в российской судебной системе является Конституционный Суд РФ. Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. В пределах конституционного контроля (нормоконтроля) разрешаются дела о соответствии иных правовых актов Конституции РФ, что закреплено в качестве полномочия Конституционного Суда РФ в п. 1 ст. 3 указанного закона. Допустимо предположить, что в рамках конституционного контроля раскрывается методологическая функция легитимности.
Данная презумпция раскрывается посредством нескольких уточняющих положений, первый блок которых следует именовать «внешними», так как они затрагивают предпосылки создания органа нормоконтроля и алгоритм выражения адресатами собственного мнения по поводу легитимности норм права. К внешним положениям отнесем: (1) создание и включение в судебную систему государства органа, осуществляющего нормоконтроль, свидетельствует о предполагаемой недостаточности процедурной легитимации норм, которые в потенции могут нарушить права человека и гражданина, и о признании того факта, что норма права становится нелегитимной в случае недостижения общественного консенсуса; (2) нарушение прав человека и гражданина является фактором, влияющим на легитимность права, что закономерно отражается в нежелании адресата подчиняться норме, нарушающей его права; (3) возможность личного обращения адресата в орган нормоконтроля позволяет ему выразить собственное несогласие с признанием действенности оспариваемой нормы; (4) в проекции на отечественный конституционный контроль обращение в Конституционный Суд РФ возможно только в рамках процедуры конкретного нормоконтроля, то есть оспариваемая норма должна быть применена в конкретном деле, она должна нарушать права и свободы конкретного индивида или коллектива, и только последние обладают правом на обращение в Конституционный Суд РФ; (5) поверхностное толкование предыдущего положения может навести на мысль о том, что лишь малая часть конкретных адресатов нормы выражает волю всего социума и самостоятельно решает вопрос о наличии либо отсутствии общественного консенсуса относительно признания действенности оспариваемой нормы, однако следует учитывать, что обращение как таковое не детерминирует Конституционный Суд РФ признавать норму неконституционной и лишать ее действенности – уже в процессе конституционного контроля, основываясь на доказательственной базе, решается вопрос о конституционности оспариваемой нормы. Наличие либо отсутствие общественного согласия здесь выступают потенциальными величинами: если норма признана не соответствующей Конституции РФ, то социум должен быть согласен с лишением ее действенности, ведь рациональный адресат не будет подчиняться норме, нарушающей его права и свободы. Следовательно, конкретный адресат, обладающий правом на обращение в орган нормоконтроля, выражает потенциальное общественное несогласие с признанием действенности оспариваемой нормы.
В другом случае, то есть при признании нормы конституционной, подлинного общественного несогласия не существует изначально. Специальная задача органа нормоконтроля, в частности Конституционного Суда РФ, при решении вопроса о действенности оспариваемой нормы заключается в установлении потенциального общественного согласия (элемента дискурсивной легитимации), так как последующее решение общеобязательно для неопределенного круга лиц.
Важнейшее критическое замечание, касающееся практической реализации положений (4) и (5), заключается в том, что действующий в сложившейся политико-правовой реальности орган нормоконтроля может быть скован господствующей политической конъюнктурой и запланированным курсом государственного развития, базирующимся на установленных правовых регуляторах. В связи с этим допустима юридическая аномалия, когда нелегитимная по мнению социума норма признается конституционной, то есть остается действенной в конкретном правопорядке. Избежать такого положения вещей, опираясь лишь на теоретические конструкции, не представляется возможным.
Второй – «внутренний» – блок уточняющих положений касается мотивирования органом нормоконтроля своего решения, а также использования понятия легитимности в правовой аргументации.
Выделим два вида аргументирующих конструкций: «легитимность в праве» и «легитимность права». Первая конструкция предполагает раскрытие политического значения легитимности, указание на существующее положение вещей в политической системе и правопорядке, констатацию значимого для властеотношений факта признания определенного социально-правового явления обществом. Предполагается, что данная видовая конструкция носит дескриптивный характер. «Легитимность права», в свою очередь, выступает прескриптивной конструкцией, так как на его основе орган нормоконтроля может решать вопрос о действенности оспариваемой нормы и, соответственно, определять легитимность в качестве условия бытия права.
Все сказанное требует выявить политико-правовой смысл понятия «легитимность», которое используется отечественным органом нормоконтроля - Конституционным Судом РФ - в актах, ставших формальным результатом осуществления правосудия в делах о соответствии Конституции РФ. Одновременно это позволит выяснить, учитывается ли такой феномен, как «легитимность права», в правоприменительной деятельности.
С позиций оперирования видовыми аргументами конструкции «легитимность в праве» отмечается следующая устойчивая формулировка, приводимая Конституционным Судом РФ: «легитимность [публичной власти] во многом основывается на доверии общества». Так, Конституционный Суд РФ ссылается на легитимность публичной власти, основывающуюся на доверии общества, при анализе посягательств представителей публичной власти на охраняемые уголовным законом общественные отношения, а также деструктивного влияния коррупции, при решении вопроса о наличии пассивного избирательного права у лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, при констатации недопущения злоупотреблений при реализации властных полномочий. Отечественный орган нормоконтроля использует указанную формулировку также для обоснования установления ограничений при реализации гражданами РФ активного избирательного права, что встраивается в связку «легитимность выборов - легитимность органов народного представительства».
Необходимо отметить, что взаимосвязь легитимности публичной власти и реализация гражданами РФ активного либо пассивного избирательного права является доминантной позицией Конституционного Суда РФ при использовании понятия «легитимность», так как большинство актов из релевантной выборки содержат тождественные правовые позиции. В этом контексте отражается связь легитимности органов народного представительства и принципа свободных выборов, утверждается, что нарушение конституционных принципов равенства и справедливости при проведении выборов подрывает легитимность органов народного представительства, и вводится понятие социальной поддержки. Однако ни в одном из актов Конституционного Суда РФ не раскрывается политико-правовое значение понятия «легитимность». Только системное их толкование способствует выявлению того факта, что легитимность в большинстве случаев проецируется на властеот-ношения и служит одним из условий стабильного и эффективного функционирования механизма государства.
Конституционным Судом РФ, помимо доминирующей формулировки, используются и такие аргументы, как «легитимность выборов» и «легитимность выбора», «легитимность избранного состава выборного органа публичной власти», «легитимность сформированного выборного органа публичной власти», «легитимность образования выборных органов местного самоуправления», «признание легитимности органа народного представительства», «легитимность исполнительной власти» и «легитимность ранее назначенных глав исполнительной власти». Несмотря на конструкцию, не совпадающую с доминирующей, указанные формулировки в целом содержательно совпадают с легитимностью публичной власти, что не порождает новых значений, которые необходимо анализировать в рамках данного исследования. Таким образом, указание в процессе отечественного нормоконтроля на политическую природу легитимности имеет бόльшую частоту, чем проецирование данного феномена на иные социально-правовые явления.
Отличной по своему значению от политической легитимности предстает формулировка «легитимность убеждений», данная Конституционным Судом РФ в ряде своих актов относительно альтернативной гражданской службы. Отечественный орган нормоконтроля не раскрывает содержание данной конструкции, которая по своему смыслу не может быть отнесена ни к политической легитимности, ни к легитимности права. Видится, что «легитимность убеждений» - первичная конструкция, потенциально связываемая с психическим восприятием субъектом какого-либо социально-правового явления, не содержащая конкретных признаков. Уже после проекции «легитимности убеждений» на политические либо правовые явления возможно допускать относимость данного аргумента к видовой легитимности.
Совершенно другая природа легитимности подразумевается Конституционным Судом РФ в том случае, когда проверка нормы на соответствие Конституции РФ затрагивает определенные правоприменительные решения. Например, Конституционный Суд РФ указывает, что «признание утратившего значение правового регулирования в сложившейся ситуации неконституционным ставило бы под сомнение легитимность правоприменительных решений» (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2017 № 31-П). Из этого следует, что правоприменительное решение, базирующееся на неконституционной, то есть недейственной, норме права и нормативно регулирующее поведение адресатов, перестает быть действенным в силу недейственности собственного основания. Конечно, подобное определенно логично с точки зрения механизма правого регулирования, однако акцентировать внимание необходимо на отражении связи легитимности и действенности.
Другим аргументом, позволяющим связать легитимность акта применения права с действенностью права, выступает следующая позиция Конституционного Суда РФ: «решения судебной власти должны быть не только формально законными, но и легитимными, то есть восприниматься как справедливые, беспристрастные и безупречные, а следовательно, служащие целями эффективной защиты» (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2018 № 39-П). Получается, что характеристика акта применения права как легитимного указывает на его «службу целям эффективной защиты», которая, как представляется, должна быть действенной, то есть влияющей на поведение адресатов. Расширительное толкование легитимности права, которое включает и правоприменительные решения, применимо и к таким формулировкам Конституционного Суда РФ, как «легитимность принимаемых законов», «легитимность принимаемых решений» и «обеспечивающих легитимность принимаемых актов».
Следует признать, что приведенные позиции лишь косвенно свидетельствуют об использовании категории «легитимность права» в правоприменении, так как Конституционный Суд РФ не проецирует понятие «легитимность» на оспариваемую в пределах конституционного контроля норму права.
Подтверждением выработанной отечественным органом нормоконтроля тенденции служит позиция Конституционного Суда РФ, приведенная для отражения спора о действенности актов Европейского суда по правам человека. Отмечается, что «высказываются взаимоисключающие мнения – от заявлений о недопустимости каких-либо посягательств на дух и букву Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полномочия Европейского суда по правам человека до резкой критики этих институтов как устаревших и утративших к настоящему моменту правовую и социальную легитимность» (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П). Помимо того, что данный аргумент выражает сомнение относительно действенности актов межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, в нем также употребляется понятие «правовая легитимность» при его разграничении с легитимностью социальной. Получается, что орган создал предпосылку для, во-первых, использования этой конструкции в юридической аргументации, во-вторых, для изучения данного понятия с целью выявления его конституционноправового смысла, в-третьих, для признания существования легитимности права в современной правовой реальности.
Несколько иной подход к легитимности правоприменительных решений демонстрирует позиция Конституционного Суда РФ, касающаяся запрета смертной казни в Российской Федерации, в которой указывается, что «ком- плексный мораторий на применение смертной казни как правовое регулирование легитимировано сложившейся правоприменительной практикой» (см.: Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р). Из указанного положения следует, что правовое регулирование, основанное на нормах позитивного права, может быть легитимировано извне; действенность правового регулирования зависит от его легитимности; нормы позитивного права, обеспечивающие легитимное правовое регулирование, должны быть легитимными, то есть действенными.
Проведенный анализ актов отечественного органа нормоконтроля позволил установить следующее:
-
- в качестве преобладающего аргумента используется политическая легитимность, характеризующая властеотношения;
-
- понятие «легитимность» не определяется ни в одном акте Конституционного Суда РФ;
-
- легитимность права в том смысле, который используется в настоящей работе, не находит отражение в актах отечественного органа нормоконтроля;
-
- подтверждается существование в современной правовой реальности легитимности права в широком смысле, который охватывает действенность правоприменительных решений.
Информация об авторах