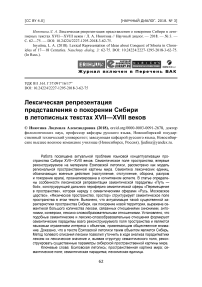Лексическая репрезентация представления о покорении Сибири в летописных текстах XVII-XVIII веков
Автор: Инютина Людмила Александровна
Журнал: Научный диалог @nauka-dialog
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 (75), 2018 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена актуальной проблеме языковой концептуализации пространства Сибири XVII-XVIII веков. Семантическое поле пространства, впервые реконструируемое на материале Есиповской летописи, рассмотрено как модель региональной пространственной картины мира. Семантика лексических единиц, обозначающих военные действия (наступление, отступление, оборона, разгром и покорение врага), проанализирована в когнитивном аспекте. В статье определены особенности лексической репрезентации семантической парадигмы «Путь - бой», конструирующей дальнюю периферию семантической сферы «Перемещение в пространстве», которая наряду с семантическими сферами «Русь, Московское царство», «Физическое пространство, простор» структурирует семантическое поле пространства в этом тексте. Выяснено, что актуализация такой существенной характеристики пространства Сибири, как покорение новой территории, выражена семантикой большого количества лексем, связанных отношениями синонимии, антонимии, конверсии, лексико-словообразовательными отношениями. Установлено, что подобные семантические и лексико-словообразовательные отношения формируют семантические парадигмы всего реконструируемого поля пространства и являются языковым отражением интереса к объектам, привлекающим общественное внимание. Доказано, что в тексте Есиповской летописи таким объектом является Сибирь. Метод полевого описания лексики позволил уточнить в ходе анализа парадигматики лексем их лексическое значение и, выявив структуру семантического поля, реконструировать существенные параметры сибирской пространственной картины мира.
Есиповская летопись, пространственная картина мира, семантическое поле, семантическая парадигма, лексическая единица
Короткий адрес: https://sciup.org/14956969
IDR: 14956969 | УДК: 811.161.1'37:091“16/17” | DOI: 10.24224/2227-1295-2018-3-62-75
Текст научной статьи Лексическая репрезентация представления о покорении Сибири в летописных текстах XVII-XVIII веков
В работе решается задача реконструкции лексической экспликации представлений о сибирском пространстве в русском языке в период XVII— XVIII веков, когда одновременно происходило открытие и освоение Сибири русскими людьми и формирование русского языка на этой территории.
Научная новизна работы состоит в том, что концептуализация сибирского пространства в русском языке Западной Сибири этого периода объяснена как структурирование семантического поля, отражающего сложное и многомерное представление носителей языка об открытой и покоряемой ими территории. Реконструкция семантического поля пространства на основании данных объемного регионального источника позволяет выявить существенные свойства концептуализированной предметной области (пространства Сибири).
Когнитивная лингвистика, как известно, исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта. Среди различных подходов к проблеме значения и попыток объяснить, как человек понимает и классифицирует мир, теория поля используется и развивается как одна из наиболее успешных.
Прием полевого описания лексики восходит к исследованиям Й. Трира, Э. Косериу и др. [Trier, 1968; Косериу, 1969] и является одним из методов лингвокогнитивного исследования, поскольку позволяет в ходе анализа парадигматики лексических единиц (ЛЕ) глубже понять их семантическую структуру, структуру лексического значения и при выявлении иерархической структуры семантического поля — реконструировать сущностные параметры картины мира. В результате его применения семантическое поле реконструируется в виде сложной, многослойно и иерархически организованной структуры: ядро, периферия, представленная рядом семантических сфер, которые, в свою очередь, структурируются семантическими парадигмами (СП) ближней и дальней периферии [Апресян, 1974; Бондар-ко, 1976; Караулов, 1981; Березович, 2004; Всеволодова, 2009; Нефедова, 2008; Падучева, 2001; Юрина (Шенделева), 2000 и др.].
Для изучения пространственной картины мира, отраженной в языке сибирских летописей, в качестве объекта исследования избран текст Есиповской летописи основной редакции. Предметом исследования являются семантика и семантические отношения лексических единиц (ЛЕ) в этом тексте, определенные в ходе анализа как релевантные для семантического поля пространства и рассмотренные как языковое воплощение понимания пространства русскими людьми XVII—XVIII веков. Выборка составила 663 ЛЕ и соответственно 3593 словоупотребления.
Исследователи, историки и лингвисты, отмечают, что в этом произведении, цельном идеологически и исторически, сибирские события рассматривались как общегосударственные, расширяющие границы России и свидетельствующие о царственности Москвы [Дергачева-Скоп, 2000, с. 12; Ромодановская, 2002, с. 100—101; Зуев, 2007, с. 10—11].
В основании Есиповской летописи и в основании сибирского летописания вообще лежит концептуальное произведение о походе Ермака в Сибирь — повесть «О Сибири». Из всех событий русской истории второй половины XVI века только «сибирское взятие» передается столь значительным количеством произведений. Причиной этого ученые считают государственный и европейский интерес к бывшей таинственной Тартарии, ставшей частью Московского царства [Дергачева-Скоп, 2000, с. 12].
Большинство сибирских летописей XVII века закономерно начинается с прихода Ермака в Сибирь и сопутствующих ему географических описаний. Знакомство читателя с Сибирью проходит через ее пространственные характеристики. Отсюда «стремление к огромному охвату пространства, панорама которого как бы компенсирует “сжатость” хронологии сибирского “взятия”. Это, в свою очередь, влияет на разработанность сюжета, который часто заменяется номенклатурой пространственных перемещений» [История русской литературы, 1980, с. 144]. Таким образом, сами события связываются в летописях прежде всего с преодолением пространства.
-
2. Реконструкция семантической парадигмы ‘Путь — бой’
Семантическое поле пространства в тексте Есиповской летописи реконструировано как состоящее из ядра и трех периферийных семантических сфер: I «Русь, Московское царство», II «Физическое пространство, простор», III «Перемещение в пространстве». Каждая семантическая сфера структурирована СП, составляющими ближнюю и дальнюю периферии.
Семантическая сфера III «Перемещение в пространстве» структурирована СП ‘Пространство — путь’, ‘Путь — идти, пойти (перемещение субъектов)’, ‘Путь — послать (перемещение объектов)’, ‘Путь — корабль’, СП ‘Путь — конь’, в том числе лексической семантикой, отражающей представление о сибирском пространстве как о месте, которое не только открыто, изучено, освоено благодаря созидательной деятельности человека, но и завоёвано, присвоено в результате активных боевых действий, а движение в пространстве, понимаемом таким образом, — это бой за него.
СП ‘Путь — бой’ сформирована значениями ста ЛЕ, представленных в исследуемых летописных текстах 290 словоупотреблениями. Такое лексическое разнообразие сопоставимо, например, с лексической репрезентацией
Таблица 1
Данные о структуре и лексической репрезентации семантического поля пространства в тексте Есиповской летописи
В статье выяснена семантика ключевых слов в названных ТГ; представлен анализ образуемых этими ЛЕ лексико-семантических и лексикословообразовательных отношений, которые эксплицируют СП ‘Путь — бой’ семантического поля пространства в тексте сибирской летописи. Ключевые слова характеризует, как известно, частота употребления, степень повторяемости в тексте; способность конденсировать информацию, выраженную целым текстом [Сахарный, 1991, с. 223]; соотнесение двух содержательных уровней текста (фактологического и концептуального) и «получение в результате этого соотнесения смысла данного текста» [Николина, 2003, с. 186].
-
2.1 Лексическое выражение представлений о бое, уничтожении врага
ТГ 1 составляют лексемы, обозначающие бой как прецедент и как процесс, в котором участвуют противники. Значение ‘битва, сражение, бой’ выражено синонимичными ЛЕ (табл. 2) бой (8)1, брань (4), драка (1), сеча (1) [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 1, с. 275, 317; вып. 4, с. 349; вып. 21; Сл. … Томска, с. 21]: … како они приидоша в Сибирь и где с погаными были бои . 1649 г. (с. 70)2; И бысть с погаными брань велия на мног час. 1649 г. (с. 57); И бысть сеча зла. 1649 г. (с. 53).
-
2.2 Лексическое выражение представлений о наступательных действиях
В ТГ 3 три лексемы выражают, по сути, одно понятие и являются синонимами: напасть (7) — ‘напасть, броситься на кого-л.; предпринять враждебные действия против кого-л.’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 10, с. 167]; наступить ( на кого ) (1) — ‘напасть, атаковать, устремиться на кого-л.; вторгнуться в пределы кого-л.’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 10, с. 277]; найти ( на кого ) (1) — ‘напасть, наброситься на кого-л.’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 10, с. 107; Сл. … Сибири, с. 80]: Погани же внез[а]пу на станы их на-падоша и побиша. 1649 г. (с. 71); Казацы же (…) мужески на поганых на-ступающе . 1649 г. (с. 52).
ЛЕ биться (3); сечься (1), составить(ся) брань (2) тоже функционируют в текстах как синонимы, обозначая действие ‘биться, сражаться’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 1, с. 187, 317; вып. 21]: Казаки ж (…) биюшеся с погаными крепце. 1649 г. (с. 62); И бысть сеча зла, за руки емлюще сечахуся . 1649 г. (с. 53); Состави же брань с Карачею и улус его взяша… 1649 г. (с. 52);
Слово противиться (1) употреблено в значении ‘оказывать военное сопротивление, давать отпор, бой’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 20, с. 255; Сл. … Томска, с. 238]: Людие же из городка противляхуся им, и тако стояш[а] и бишася день цел. 1649 г. (с. 64—65).
То, какие из слов, репрезентирующих понятия СП ‘Путь — бой’, являются ключевыми, свидетельствует о сформулированных в Сибирских летописях приоритетах в отношении к новым землям: наступление, на- падение, покорение и подчинение, завоевание территории. Так, ЛЕ в ТГ 2 обозначают физическое уничтожение и разорение врага и отличаются значительной частотой употребления. Словом побить (20) названо действие ‘убить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 15, с. 127; Сл. … Томска, с. 187]: … и постигоша их, воя его многих побиша… 1649 г. (с. 68—69).
Лексема убить (9) обозначает ‘лишить жизни, умертвить’ [Сл. ... Сибири, с. 159], Л Е убиение (12) называет действие по этому глаголу, Л Е убиенный (5) обозначает ‘убитый’: По убиении Ермакове з дружиною остав-шая во граде Сибири видяше, яко наставника злочестивыи тотаровя уби-ша … 1649 г. (с. 63); … убиенным вечьная память болшая. 1649 г. (с. 71).
ЛЕ казнить (3) ‘предать смерти’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 7, с. 24] и предать смерти (3) ‘умертвить, убить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 18, с. 176] связаны синонимическими отношениями со словами побить, убить, избить : Многих же имающе казняху , а иные аки волки разбего-шася . 1649 г. (с. 73); …прибегоша в Саускан, надеяхуся казаков смерти предати , и нападоша на нь. 1649 г. (с. 62).
ЛЕ приступать (2) также обозначает ‘подступать с целью нападения; начинать осаду, штурм; брать приступом’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 20, с. 42; Сл. … Сибири, с. 126; Сл. … Томска, с. 228]: Начаша же к городку приступати со всех стран . 1649 г. (с. 64).
Слово погнать (4) употреблено в значении ‘погнаться, отправиться вдогонку за кем-л.’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 15, с. 188]; однокоренные ЛЕ достичь (1) ‘преследуя кого-л., догнать, настигнуть’ [Сл. РЯ XI— XVII вв., вып. 4, с. 335] и постичь (2) ‘догнать, настичь’ [Сл. РЯ XI— XVII вв., вып. 10, с. 167] синонимичны в летописных текстах: Ермак … по-гна вслед поганых и достигоша их. 1649 г. (с. 57); … рускии вои, и погнаша вслед // его; постигоша ж сего близ поля 1649 г. (с. 68).
Таблица 2
Семантическая систематизация ЛЕ, выражающих СП ‘Путь — бой’ семантического поля пространства в тексте Есиповской летописи
|
ТГ |
Лексические парадигмы |
||
|
Синонимы |
Конверсивы |
Антонимы |
|
|
Обозначения боя |
Бой — брань — драка — сеча; биться — сечься — составить брань; вооружить — собрать войско. |
Вооружить — ополчиться; собрать войско — ополчиться. |
|
|
Обозначения процесса уничтожения противника |
Побить — убить — избить — казнить — вешать; Громить — воевать. |
||
|
Обозначения наступательных действий |
Напасть — наступить — найти (на кого); Достичь — постичь. |
Наступать ↔ отступать; напасть, найти (на кого) ↔ устремиться на бежение, вдаться бегству, утечь. |
|
|
Обозначения отступления, бегства |
Побег — бежение — бегство; устремиться на беже-ние — вдаться бегству; утечь — оставить; отступление — исступление; крыться — скрыться. |
||
|
Обозначения победы и действий, нацеленных на покорение врага |
Победить — одолеть; победа — одоление; разорить — разрушить; извести — изгнать; имать — поимать — взять; пленить — попленить. |
Изгнать — устремиться на бежение, вдаться бегству, утечь |
Победа ↔ по-беждение; пленить, попле-нить ↔ отпо-лонить. |
|
Обозначения поражения |
Покорить — покориться; разорить, разрушить — сокрушиться; предать — предаться |
||
ЛЕ, обозначающие победу над противником, его покорение и взятие его территории (ТГ 6), являются количественно наиболее представленными среди лексических репрезентантов СП ‘Путь — бой’: более 25 ЛЕ, зафиксированных в более чем 85 словоупотреблениях (табл. 1).
ЛЕ победить (12) выражено значение ‘нанести поражение, разгромить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 15, с. 121]: …царство Сибирьское взяша и царя Кучюма и с вои его победиша … 1649 г. (с. 57); … не многими вои победиша шатания поганых… 1649 г. (с. 51).
Лексема победа (6) употреблена в своем прямом значении, а словом побеждение (1) выражено противоположное понятие — ‘поражение’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 15, с. 124]. ЛЕ одолеть (1) и одоление (1) являются синонимичными с ЛЕ, соответственно, победить и победа (табл. 2): Старейшина бысть град Тоболеск, понеже бо ту победа и одоление на окаянных бусормен бысть… 1649 г. (с. 66); Егда ж побежден бысть царь Кучюм… Многажды же покушашеся итти в Сибирь (…) и страхом одержим бяше прежняго ради побеждения . 1649 г. (с. 68); Видевше карача, яко одолети казаков невозможно, отъиде восвояси… 1649 г. (с. 62).
Семантика Л Е взять (17) и взятие (15) отражает важную сторону сибирского пространства как концептуализированной предметной области –– его присвоение в результате победы над местными немирными племенами, поэтому эти ЛЕ употребляются в летописных текстах так же часто, как и слова победить (12), победа (6). Л Е взять (17) названо действие ‘отнять, захватить, завладеть чем-л.’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 2; Сл. … Сибири, с. 19; Сл. … Томска, с. 31]: … царство Сибирьское взяша и царя Кучюма и с вои его победиша… 1649 г. (с. 57); … и прииде ко граду Сибири, и град взя … 1649 г. (с. 64); Состави же брань с Карачею и улус его взяша … 1649 г. (с. 52). Это слово употреблено также для обозначения действия ‘схватить, задержать, поймать (кого-л.)’: … и две цариц[ы] его и сына царевича взяша … 1649 г. (с. 68).
Лексемой взятие (15) обозначен захват города, края [Сл. … Томска, с. 31; Сл. … Сибири, с. 19]: О взяти[и ] городков и улусов. 1649 г. (с. 42); Лета 7098-го после сибирского взятья … 1649 г. (с. 74).
Семантика ряда глаголов отражает действия победителей, направленные на покорение завоеванной территории. Лексемы громить (6) — ‘грабить, разбивать’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 4, с. 141] и воевать (1) — ‘разорять, грабить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 2, с. 261], разорить (2) — ‘разрушить, уничтожить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 21; Сл. … Томска, с. 243] и разрушить (1) — ‘разорить, привести в полное расстройство; уничтожить’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 22] — образуют соответственно 2 си- нонимических ряда, например: …победити бусорманского царя Кучюма и разорити боги мерския и их нечестивая капища… 1649 г. (с. 50); …бог восхоте царство его разрушити и предати православным християном. 1649 г. (с. 48).
Значения ЛЕ извести (1) — ‘вывести откуда-л., удалить’ [Сл. РЯ XI— XVII вв., вып. 6, с. 111] и изгнать (2) — ‘изгнать, выгнать’ [Сл. РЯ XI— XVII вв., вып. 6, с. 136] определены как синонимичные в исследуемых текстах: Бекбулатов же сын Сейдяк от убиения царя Кучюма соблюден бысть и изведен в Бухарскую землю. 1649 г. (с. 48); Кто мя победи и напрасно мя из царства изгна ? 1649 г. (с. 55).
Лексема изгнать составляет лексико-семантическую парадигму кон-версивов с ЛЕ устремиться на бежение , вдаться бегству, утечь (табл. 2), представляя собой структурный тип конверсивов-глаголов со значением причины и следствия [Новиков, 1982, с. 217].
Однокорневыми лексемами имать (4), поимать (3), переимать (1) обозначены действия по захвату людей противоборствующей стороны [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 6, 16, 14; Сл. ... Сибири, с. 55, 113, 103; Сл. ... Томска, с. 85—86, 197, 179]: Многих же имающе казняху, а иные аки волки раз-бегошася . 1649 г. (с. 73); Царевича же Маметкула уязвиша от русских вои, тогда бо и поиман был… 1649 г. (с. 54); Многих же переимали и казнили. Первая половина XVII в. (с. 78). ЛЕ имати и поимати являются синонимами с ЛЕ взяти .
Взятие в плен названо в анализируемых текстах однокорневыми ЛЕ пленить (4) и попленить (4) [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 14; вып. 15, с. 85; Сл. … Томска, с. 208]: …а которые не покорятся, и тех пленя-ше и покоряше. 1649 г. (с. 73); … Назим, городок остяцкой, взяша и со князем и со многими остяки и поплениша . 1649 г. (с. 71). А словом от-полонить (1) выражено действие ‘отбить, вернуть взятых противником пленников и трофеи; освободить от плена’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 13, с. 303; Сл. … Томска, с. 171; Сл. … Сибири, с. 99]: … воя его многих побиша и кон[и] своя отполониша . 1649 г. (с. 69). Таким образом, лексемы пленить , попленить и отполонить являются антонимами (табл. 2).
-
2.3 Лексическое выражение представлений о поражении и оборонительных действиях
-
3. Заключение
В исследуемых летописных текстах зафиксировано небольшое количество ЛЕ, эксплицирующих семантику отступления и поражения в борьбе за обладание сибирскими землями (ТГ 4, 5, 7 — табл. 1).
Такие слова, как побег (4), бежение (3) и бегство (2) образуют синонимическую парадигму: О побе[г]е царя Кучюма . 1649 г. (с. 42); ... князь Сейдяк побежден бысть, и на бежение устремишася. 1649 г. (с. 67); … вдашася невозвратному бегству со всеми вои... 1649 г. (с. 55). Ряд ЛЕ являются антонимами: наступать ^ отступить ; напасть , найти ( на кого ) ^ устремиться на бежение , вдаться бегству, утечь. ЛЕ покориться (6) и покорить (6), сокрушиться (1) — ‘разрушиться, развалиться, разбиться’ [Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 26, с. 124] и разорить (2), разрушить (1) являются конверсивами (табл. 2): Которые покорятся государю, и тех приводил к шерти, а которые не покорятся , и тех пленяше и покоряше . 1649 г. (с. 73).
В итоге анализа весьма значительного количества лексики, репрезентирующей СП ‘Путь — бой’ и составляющей дальнюю периферию семантической сферы III «Перемещение в пространстве», выяснено, что ЛЕ отражают разнообразные боевые действия казаков под предводительством Ермака и других атаманов, а также войск под руководством воевод, посылаемых в Сибирь Московским царем. Количество ЛЕ в определенной ТГ и количество их фиксаций в тексте, отражает тот факт, что наиболее актуальным (88 ЛЕ из 100) является обозначение боя и военных действий как таковых, активных, наступательных действий русских казаков и воинов, а особенно акцентирован факт победы над сопротивляющимися местными племенами и князьями, то есть взятие Сибири (табл. 1).
Отличительной чертой реконструированной СП является ее структурированность семантикой большого количества ЛЕ, связанных отношениями синонимии, антонимии, конверсии (табл. 2). Таким образом, актуализированы существенные характеристики пространства Сибири: бой за покоряемую землю, взятие этой территории под власть Московского государства. В масштабном летописном произведении пространство Сибири находится в центре внимания и характеризуется с различных позиций (этнической, географической, прагматической и др.), в том числе с военной точки зрения — как территория, которую нужно покорить.
Еще одной особенностью СП ‘Путь — бой’, эксплицированной в значительной части (73 %) глагольными ЛЕ, является то, что определяющими оказываются не только семантические связи и отношения, но и лексикословообразовательные.
Такие семантические и лексико-словообразовательные отношения формируют СП всего реконструируемого семантического поля простран- ства и являются языковым отражением интереса к пространственным объектам, привлекающим общественное внимание. Как показывает наше исследование, объект Сибирь находится в центре такого общественного и даже государственного интереса.
Семантическое поле пространства, таким образом, объяснено как языковое воплощение представления русских людей о пространстве Сибири в XVII—XVIII веках. Оно понимается как большая территория, характерные особенности которой раскрываются в процессе ее постепенного познавания, покорения и освоения, то есть в процессе активной преобразующей деятельности человека.
Список литературы Лексическая репрезентация представления о покорении Сибири в летописных текстах XVII-XVIII веков
- Полное собрание русских летописей/отв. ред. А. П. Окладников, Б. А. Рыбаков. -Москва: Наука, 1987. -Т. 36: Сибирские летописи. -Ч. 1: Группа Есиповской летописи. -381 с.
- Сл. … Томска -Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII -начала XVIII в. -Томск: Томский университет, 2002. -336 c.
- Сл. РЯ XI-XVII вв. -Словарь русского языка XI-XVII вв. -Москва: Наука, 1975-2008. -Вып. 1-28.
- Сл. … Сибири -Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири ХVII -первой половины ХVIII в./сост. Л. Г. Панин. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991. -181 с.
- Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка/Ю. Д. Апресян. -Москва: Наука, 1974. -366 с.
- Березович Е. Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей/Е. Л. Березович//Вопросы языкознания. -2004. -№ 6. -С. 3-24.
- Бондарко А. В. Теория морфологических категорий/А. В. Бондарко. -Ленинград: Наука, 1976. -255 с.
- Всеволодова М. В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка/М. В. Всеволодова//Вопросы языкознания. -2009. -№ 3. -С. 76-100.
- Дергачева-Скоп Е. И. Сибирское летописание в общерусском литературном контексте конца XVII -середины XVIII вв.: автореферат диссертации … доктора филологических наук: 10.02.01/Е. И. Дергачева-Скоп. -Екатеринбург, 2000. -49 с.
- Зуев А. С. Отечественная историография присоединения Сибири в России/А. С. Зуев. -Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2007. -120 с.
- История русской литературы: в 4 т/ред. Н. И. Пруцков.-Ленинград: Наука, 1980. -Т. 1. -813 с.
- Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка/Ю. Н. Караулов. -Москва: Наука, 1981. -368 с.
- Косериу Э. Лексические солидарности/Э. Косериу//Вопросы учебной лексикографии. -Москва, 1969. -С. 93-104.
- Нефедова Е. А. Многозначность и синонимия в диалектном пространстве: монография/Е. А. Нефедова. -Москва: МАКС Пресс, 2008. -464 с.
- Николина Н. А. Филологический анализ текста/Н. А. Николина. -Москва: Академия, 2003. -256 с.
- Новиков Л. А. Семантика русского языка/Л. А. Новиков. -Москва: Высшая школа, 1982. -272 с.
- Падучева Е. В. К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке)/Е. В. Падучева//Вопросы языкознания. -2001. -№ 4. -С. 23-45.
- Ромодановская Е. К. Сибирь и литература: XVII век/Е. К. Ромодановская. -Новосибирск: Наука, 2002. -391 с.
- Сахарный Л. В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения//Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. -Москва, 1991. -С. 221-227.
- Шенделева (Юрина) Е. А. Ассоциативно-образное семантическое поле как единица анализа образного строя языка/Е. А. Шенделева (Юрина)//Актуальные проблемы русистики: сб. ст./под ред. Т. А. Демешкиной. -Томск, 2000. -С. 116-128.
- Trier J. Altes und Neues vom sprachlichen Feld/J. Trier//Duden Beiträge zu Fragen der Rechtschreibung, der Grammatik und des Stils. -Zürich, 1968. -S. 13-16.