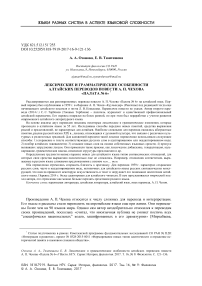Лексические и грамматические особенности алтайских переводов повести А. П. Чехова "Палата № 6"
Автор: Озонова Айяна Алексеевна, Тюнтешева Елена Валерьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языки разных систем в аспекте языковой сложности
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются два разновременных перевода повести А. П. Чехова «Палата № 6» на алтайский язык. Первый перевод был опубликован в 1959 г. в сборнике А. П. Чехов «Куучындар»(Рассказы) под редакцией тогда еще начинающего алтайского писателя и поэта Л. В. Кокышева. Переводчик повести не указан. Автор второго перевода (2014 г.) С. С. Торбоков (Токшын Торбоков)- писатель, журналист и единственный профессиональный алтайский переводчик. Его перевод опирался на более ранний, но при этом был переработан с учетом развития современного алтайского литературного языка. На основе анализа двух переводов показаны некоторые лексические и грамматические изменения, которые произошли в алтайском языке за 55 лет. Исследованы способы передачи новых понятий, средства выражения реалий и представлений, не характерных для алтайцев. Наиболее сложными для перевода оказались абстрактные понятия, реалии русской жизни XIX в., лексика, относящаяся к духовной культуре, что связано с различием культурных и религиозных традиций. Для адекватной передачи такой лексики переводчики использовали следующие способы: 1) сохранение в тексте соответствующих русских слов в адаптированном или неадаптированном виде; 2) подбор алтайских эквивалентов; 3) создание новых слов на основе собственных языковых средств; 4) пропуск вызвавших затруднение лексем. Они применяли такие приемы, как лексическое добавление, генерализация, калькирование, грамматическая замена, изменение структуры предложения и др. Определенные трудности вызвал перевод новых для алтайского языка типов синтаксических отношений, для которых свои средства выражения окончательно еще не сложились. Например, отношения соответствия, выражаемые в русском языке сложными предложениями с союзом чем … тем. Оба переводчика стремились сохранить близость к оригиналу. Для перевода 1959 г. характерно сохранение русских слов, часто в неадаптированном виде, нетипичных для алтайского языка русских синтаксических конструкций, что иногда привносит некоторую искусственность в текст и затрудняет его понимание носителями алтайского языка. Перевод 2014 г. более адаптирован для алтайского читателя. В нем прослеживается творческий подход автора, его стремление как можно больше передать средствами родного языка.
Переводная литература, алтайская литература, алтайский язык, язык перевода, а. п. чехов
Короткий адрес: https://sciup.org/147219843
IDR: 147219843 | УДК: 821.512.151’255 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-121-136
Текст научной статьи Лексические и грамматические особенности алтайских переводов повести А. П. Чехова "Палата № 6"
Произведения А. П. Чехова относятся к числу сложных для перевода и интерпретации. Его пьесы и рассказы стали переводить на европейские языки еще при жизни. Они переведены более чем на 90 языков мира. Однако сам автор неодобрительно относился к переводам своих произведений, поскольку «считал, что иноязычная публика не сможет постичь всех “специфически национальных” кодов, зашифрованных в его драматургии» [Мирзабаева,
2015. С. 787]. Вне исторического контекста, вне тех понятий, которые очень важны для русской жизни того времени, теряется их специфика, часто может быть не понята чеховская ирония.
На алтайский язык произведения А. П. Чехова были переведены в 50-е гг. XX в. [Каташ, Катынова, 2004. С. 248]. Для алтайской литературы послевоенного времени характерна активная переводческая деятельность: «…недостаток в создании оригинальных художественных произведений на родном языке в какой-то мере восполняется переводами произведений русских писателей, других народов СССР» [Казагачева, 1969. С. 106]. Было переведено около ста произведений русских и советских писателей. Во второй половине 50-х гг. в литературу приходит новое поколение писателей и поэтов, получивших образование в Литературном институте им. А. М. Горького: А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин. Наряду с появлением новых оригинальных произведений этих молодых писателей продолжается перевод произведений русской, советской и зарубежной классики.
Были изданы два сборника переводов произведений А. П. Чехова: «Куучындар» (Рассказы) (ред. Е. Плеханова. Горно-Алтайск, 1954); «Куучындар» (Рассказы) (ред. Л. В. Кокышев. Горно-Алтайск, 1959). В эти сборники вошли рассказы «Ванька», «Каштанка», «Унтер При-шибеев», «Хамелеон», «Крыжовник», «Спать хочется», «Средство от запоя», «Лошадиная фамилия», «В бане» и повесть «Палата № 6». Также были переведены пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», «Медведь», «Сватовство», «Свадьба».
В данной статье мы рассматриваем два разновременных перевода повести «Палата № 6» (1959 и 2014 гг.) на алтайский язык. Исследуются способы передачи новых понятий, средства выражения реалий и представлений, не характерных для алтайцев.
Первый алтайский перевод повести «Палата № 6» («6 №-лÿ палата») был опубликован в сборнике 1959 г. под редакцией тогда еще молодого, начинающего алтайского писателя и поэта Л. В. Кокышева. К сожалению, в сборнике не были указаны конкретные переводчики ни рассказов, ни рассматриваемой повести.
Автор позднего перевода (2014 г.) – С. С. Торбоков (Токшын Торбоков), писатель, журналист и единственный алтайский профессиональный переводчик. Им были переведены на алтайский сказки народов мира, произведения русских и советских писателей, Евангелие от Марка, Новый завет и др. При переводе «Палаты № 6» («Алтынчы палата») Т. Торбоков опирался на переводной текст 1959 г., переработал его с учетом развития современного алтайского литературного языка.
Особая трудность перевода произведений А. П. Чехова на алтайский язык заключается в различии культурных и религиозных традиций, в передаче некоторых абстрактных понятий, а также лексем и устойчивых сочетаний со специфическим значением в русском языке. Для адекватной передачи такой лексики переводчики используют несколько приемов: 1) оставляют в тексте соответствующие русские слова в адаптированном или неадаптированном виде; 2) стараются подобрать алтайские эквиваленты; 3) на основе собственных языковых средств создают новые слова; 4) пропускают вызвавшие затруднения лексемы.
В обоих переводах ожидаемо встречаются русские слова, отражающие реалии русской жизни XIX в. Среди них заимствования, которые уже вошли в алтайский язык и подверглись фонетическим изменениям: стене ‘стена’, печке ‘печка’, сенек ‘сени’, потпол j ы ‘подполье’, картошко ‘картошка’, картап ‘картошка’, лакпа ‘лавка’, школ ‘школа’, клап ‘клоп’, газет ‘газета’, чот ‘счет’, огурчын ‘огурец’, болуштоп ‘бутылка’, сопок ‘сапог’, тӱрме ‘тюрьма’ и др. Значительную часть русских слов переводчики оставили без изменения. Это лексика, передающая названия реалий, появившихся в жизни алтайцев в более поздний период, например медицинская терминология: хирург, фельдшер, скальпель, термометр, инструмент, касторка, антисептика, гипнотизм, гигиена; одежда и некоторые ее детали: костюм, гал стук, карман; общественно-политическая и экономическая лексика: общество, сенатор, жандарм, исправник, почтмейстер, князь, либерал, интеллигент, учреждение, вексель, ста тистика; лексика, отражающая элементы культурной жизни, образования и религии: театр, клуб, журнал, нота, гимназия, факультет, урок, философия, монастырь, архиерей и др.
Для второго перевода характерно большее число адаптированных заимствований, в то время как в первом они предстают как русские слова с неадаптированным для алтайского языка обликом.
Например:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
счет |
счет |
чот |
|
Россия |
Россия |
Арасей |
|
оловянные кружки |
телеҥир кружкалар |
телеҥир к ÿ р ÿ шкелер |
|
фуражка с козырьком |
козыректу фуражка |
кӧсӧрӧктӱ пурашка |
|
бочка |
бочка |
бочко |
Следует отметить, что в первом переводе наблюдается гораздо большее количество русских слов, чем во втором. Это объясняется, прежде всего, тем, что второй перевод был сделан в наши дни. Алтайский язык получил статус государственного, стал языком богатой оригинальной художественной литературы, публицистики, научной литературы, делопроизводства; активно развивается общественно-политическая терминология, появляется много новых лексем для реалий, которые раньше имели русское название.
Например:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
больница |
больница |
эмчилик |
|
чиновник |
чиновник |
сайыт |
|
уездное училище |
уездный училище |
уезд сургал |
|
школа |
школ |
сургал |
|
наука |
наука |
билим |
|
час |
час |
саат |
|
яблоко |
яблоко |
алама |
|
история |
история |
т ÿÿ ки |
В противоположность второму переводчику первый необоснованно часто оставляет в тексте русские слова даже при возможности адекватно передать данные понятия средствами родного языка:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
одна рюмка водки |
бир рюмка аракы |
бир чӧӧчӧй аракы |
|
март |
март ай ‘месяц март’ |
тулаан ай |
|
преступник |
преступник |
каршучыл |
|
духовная академия |
духовный академия |
кудай j аҥын ӱренер академия ‘академия, изучающая закон божий’ |
|
каждую минуту |
кажы ла минутта |
кажы ла элесте ‘каждое мгновение’ |
|
Образ поставлен его иждивением … (с. 136) |
Кудайдыҥ сӱри оныҥ иждиве - ниезине тургузылган … (с. 39) |
Кудайдыҥ сӱри оныҥ акчасы - ла тургусылган … (с. 23) ‘Образ Бога поставлен на его деньги…’ |
Иногда объемы значения заимствования в алтайском языке и его русского прототипа не совпадают, и употребление его в переводе в некоторых контекстах некорректно, поскольку приводит к искажению смысла. Например, заимствование общество вошло в алтайский в значении ‘определенный круг людей’:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
у общества нет выс-ших интересов (с. 125) |
обществодо бийик jилбу jок обществодо бийик jилбу jок (с. 28) ‘в обществе нет выс- (с. 9) ‘в обществе нет высших ших интересов’ интересов’ |
Значение ‘компания’, которое имеется у русской лексемы, в алтайском языке отсутствует:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
... единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. (с. 137) |
Ол бастыра городто сок j атыс кижи, обществозы Ан -дрей Ефимычка кунукчыл эмес. (с. 40) ‘Он во всем городе единственный человек, его * общество Андрею Ефимычу не скучно.’ |
Бастыра городто Андрей Ефимыч jатыс бу кижиге кыртыштан - байт. (с. 25) ‘Во всем городе Андрей Ефимыч только по отношению к этому человеку не раздражается.’ |
В речи современного молодого поколения можно встретить употребление слова общест -во в данном контексте, однако это можно расценивать как явление интерференции.
Следует отметить, что в переводе 1959 г. калькирована также структура русского предложения, некорректная для алтайского языка. Естественным был бы следующий порядок слов: Ол бастыра городто обществозы Андрей Ефимычка кунукчыл эмес сок jакыс кижи.
В плане несовпадения объема значения интересен также следующий пример:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
надевала офицерское платье |
офицерский платьени кийип офицер j икпени кийип (с. 27) алала (с. 42) ‘надев офицерскую юбку ’ |
В переводе 1959 г. оставлено слово платье , которое в русском языке XIX в., помимо значения ‘платье как конкретный вид одежды’, имело более широкое значение ‘одежда’. В алтайский язык это слово вошло только в первом значении, поэтому данный перевод может быть неправильно понят читателем. Неверное понимание данного слова отражается в переводе 2014 г., где вместо русского платье в широком значении использовано слово jикпе ‘юбка’.
С 1990-х гг. после получения алтайским языком наряду с русским статуса государственного языка наблюдается активное использование собственных языковых средств для номинации новых понятий, а также для замены некоторых уже прочно вошедших в язык русских заимствований (школ - сургал, город - кала, холодильник - сооткыш, машина - к ол у к, стиль (художественный) - мар и др.). Некоторые из них входят в словарный состав языка, другие остаются только в письменной речи. В позднем переводе прослеживаются примеры словотворчества, что связано со стремлением переводчика по возможности избегать русских слов. Алтайский литературный язык «находится в живом развитии, приходится не просто переводить, а изобретать слова…» [Бедюров, 2015]. Для создания нового слова Т. Торбоков использует словосложение, кальки, аффиксальное словообразование от русской производящей основы:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
флигель |
флигель (со сноской: j аан тураныҥ оградазында турган туралар ‘дома, стоящие во дворе большого дома’) (с. 24) |
кош тура букв. ‘добавочный дом’ |
|
исполнительный лист |
исполнительный лист |
бÿдÿреечи чаазын букв. ‘бумага, которая исполняет’ |
|
печники |
печник = тер |
печке = чи = лер |
|
трактирщик |
трактирщик |
трактир = чи |
При переводе слова флигель автор, раскрывая для читателя значение данного слова, обратился к словосложению: ср. флигель ‘пристройка сбоку главного здания или дом во дворе большого здания’ [Ожегов, 1983. С. 759] → кош тура ‘добавочный дом’. Второй пример б ÿ д ÿ реечи чаазын ‘исполнительный лист’ представляет собой кальку: букв. ‘бумага, которая исполняет’. В последних двух примерах аффикс деятеля = чы присоединяется к заимствованной основе.
Стараясь использовать собственные средства алтайского языка при отсутствии эквивалентов, Т. Торбоков находит лексемы, имеющие общие компоненты значения с русскими словами. Эти алтайские лексемы, как правило, имеют широкое значение, но в определенном контексте переводчик употребляет их в более узком, специализированном значении. Например, глагол арестовать в тексте 1959 г. передан сочетанием русского глагола в форме инфинитива и алтайского вспомогательного глагола эт = ‘делать’. Это распространенная модель словообразования от русских глаголов. В тексте 2014 г. в этом значении используется глагол ол j оло = ‘брать в плен’:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
арестовать |
арестовать эдер ‘арестовать’ |
олjолоор ‘брать в плен’ |
|
…Ночью [он] не спал и все думал о том , что его могут арестовать , заковать и посадить в тюрьму (с. 127) |
…Тӱнде… уйуктабаган , оны арестовать эдердек , канjылаардаҥ ла тӱрмеге отургызар-даҥ айабас деп , jаан-тайын сананып турган (с. 30) |
… Тӱнде уйуктабаган , оны ол j олоордок , канjылаардан ла тӱрмеге отургызардаҥ айа-бас деп сананган ( с . 11) |
|
арест |
арест |
олjо ‘ плен ’ |
|
в аресте и тюрьме… в сущности , нет ничего страшного (с. 128) |
арестте ле тÿрмеде jалтамчылу бир де неме jок (с. 31) |
олjодо ло тÿрмеде jалтамчылу неме jок ( с . 13) |
|
арестанты |
арестанттар |
олjодо улус ‘ люди в плену ’ |
|
Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями… (с. 127) |
Айылында оныҥ бажынаҥ арестанттар ла мылтык-тарлу солдаттар тӱжине ле чыкпай турды… (с. 30) |
Айылында ол]'одо улус ла мылтыктарлу солдаттар кере- тӱжине санаасынаҥ чык-пай… ( с . 11) |
От таких случаев употребления некоторых алтайских лексем в непривычном, несвойственном для них специализированном значении следует отграничивать прием генерализации, широко используемый переводчиком. В то время как переводчик текста 1959 г. часто оставляет русские слова, стремясь к более близкой, дословной передаче смысла текста, Т. Торбо-ков прибегает к контекстуальной замене русских слов алтайскими с более широким значением, сохраняя при этом общий смысл предложения:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
по воскресеньям ... по воскресеньям в приемной кто - нибудь из больных, по его при -казанию, читает вслух акафист ... (с. 136) |
воскресен кундер сайын ‘по воскресным дням’ ...воскресен кундер сайын приемныйда онын jакарузы аайынча оору улустан кем -кем оско улус угуп тургадый эдип сарымдап турат. (с. 39) |
амыраар кундер сайын ‘по выходным дням’ ...амыраар кундер сайын бу кыпта онын jакарусыла оору улустан кем - кем угустыра сарындап турат . (с. 23) |
|
матрацы |
матрацтар |
тожок-jастыктар ‘постель, постельные принадлежности’ |
|
под подушкой и под матрацем |
j астыгынын алдында ла то ж огинин алдында ‘под подушкой и под постелью’ |
j астыгынын алдында ла то ж о гинин алдында ‘под подушкой и под постелью’ |
|
панталоны |
ич кийимдер ‘нижнее белье’ (букв. ‘внутренние одежды’) |
|
|
квас |
квас |
суузын ‘питье, напиток’ |
|
в первую минуту . и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец. (с. 122) |
баштапкы минуттарда ‘в первые минуты’ Бу j ыт слерге баштапкы ми - нуттарда слер ан турган jерге келгенигердий билдирет. (с. 25) ‘Этот запах кажется вам, как будто вы вошли в место, где находятся звери.’ |
баштап тарый ‘первое время, сначала’ Баштап тарый ан-куштын таскагына кирип келгенигер-дий бодолот. (с. 4) ‘Первое время думается, будто [вы] вошли в загон зверей и птиц.’ |
|
овчарка ... выражение степной овчарки |
овчарка . онын будужи чолдин ов - чарказына jузундеш (с. 24) |
укту ийт ‘породистая собака’ ... будужи чолдин укту ийди - не кеберлеш (с. 3) |
|
амеба ... жизнь которых бес -содержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь аме - бы ... (с. 135) |
амеба ...jуруми амаду jок, куру ла амебанын j'урумине туп -туней болгон ... (с. 38) ‘жизнь их была бесцельна, пуста и похожа на жизнь амебы’ |
эн оогош тынду ‘самое малое существо’ .jуруми амаду jок, куру ла эн оогош тындунын jурумине туп - туней болор ... (с. 21-22) ‘жизнь их будет бесцельна, пуста и похожа на жизнь самого малого существа’ |
|
земство Года два тому назад земство расщедри -лось ... (с. 143) |
земство Эки jыл мынан кайра земство jакшы кууни тудала ... (с. 46) |
башкарту ‘ правление’ Эки j ыл мынан кайра баш - карту jакшы кууни тудала... (с. 32) |
|
помещик Михаил Аверьяныч ко -гда - то был очень бога - тым помещиком и служил в кавалерии... (с. 137) |
помещик Михаил Аверьяныч качан да сурекей бай помещик болгон ло кавалерияда служить эт-кен ... (с. 40) |
бай кижи ‘богатый человек’ Михаил Аверьяныч качан да сурекей бай кижи болгон, атту черу де турган ... (с. 25) |
|
гривенник |
гривенник |
оок акча ‘мелие деньги’ |
|
антисептика отсутствие антисеп-тики |
антисептика антисептика jогы ‘отсутствие антисептики’ |
эм - тус ‘лекарственные средства’ эм - тус j е^ишпей турганы ‘нехватка лекарственных средств’ |
Иногда при переводе русских реалий, не имеющих прямых соответствий у алтайцев, Т. Тор-боков приводит названия алтайских реалий, обнаруживающих те или иные сходные с ними черты:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
щи щи из кислой капусты |
мун ‘бульон’ кычкылтым капустадак бе -летеген мун ‘бульон, приготовленный из кислой капусты’ |
мун ‘бульон’ кычкылтым капустадак кай -наткан мун ‘бульон, приготовленный из кислой капусты’ |
|
ушат Утром больные... умы -ваются в сенях из большого ушата . (с. 131) |
ушат ...эртен тура ооруулустар сенекте j аан ушаттан jунунып турулар ... (с. 34) ‘Утром больные моются в сенях из большого ушата.’ |
колj унгуш ‘рукомойник’ ... эртен тура оору улус се -некте кол j унгуштан jунунуп ... (с. 16) ‘Утром больные моются в сенях из рукомойника.’ |
|
скрипка |
скрипка |
икили ‘алтайский двуструнный смычковый инструмент’ |
|
коляска |
коляска |
абра ‘телега’ |
Лексема икили кажется здесь не совсем удачной, так как обозначает определенный национальный инструмент, ни по форме, ни по способу игры не напоминающий скрипку.
Для перевода названий социальных слоев, нетипичных для алтайского общества, переводчики в каждом конкретном случае находят разные способы. Так, при переводе обращения ваше высокоблагородие использованы полукальки с калькированием первого компонента ваше (перевод 1959 г.) и второго компонента бийик ‘высокий’ (перевод 2014 г.):
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
ваше высокоблагородие |
слердик высокоблагородие ‘ваше высокоблагородие’ |
слердик бийик благородиегер ‘ваше высокое благородие’ |
При передаче таких понятий, как благородного звания, из благородных, переводчики попытались подобрать алтайские эквиваленты:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
благородного звания |
агару кижи |
укту - тосту |
|
из благородных |
агару улустардык бирузи |
укту - то ст улердик биру си |
В раннем переводе использовано сочетание агару кижи, первый компонент которого ага -ру ‘святой, священный’, а второй – кижи ‘человек’. Это сочетание активно употребляется в алтайских переводных православных текстах в значении ‘святой человек, святой’. Таким образом, оно не является эквивалентом русского благородный . Во втором переводе найдено более удачное парное слово укту - тосту ‘родовитый, знатный’.
Название ‘низшее сословие’ в обоих текстах переведено описательно как низшее относительно говорящего (и его собеседника):
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
низшее сословие уровень ее развития ... нисколько не выше, чем у низшего сословия (с. 138) |
бистек уйан jаткан улус ‘лю- бистек уйан jаткан улус ‘люди, живущие хуже нас’ ди, живущие хуже нас’ Онык озуминик кеми, бистек .онык озуминик кеми, уйан j аткан улуска к оро , бир бистек уйан j аткан улуска де эмеш бийик эмес ( с . 41) к оро , бир де эмеш бийик эмес. (с. 26) |
Наибольшую трудность вызывает перевод некоторых абстрактных понятий, лексики, связанной с духовной культурой: интеллигентный, личность, нравственная чистота, душа, благородство души, пошлость, честь. Так, исследователи отмечают, что «пошлость – одно из самых известных непереводимых русских слов» [Зализняк и др., 2005. С. 182]. В каждом конкретном случае такие слова приходится переводить по-разному, более или менее приближаясь к смыслу оригинала:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
Даже интеллигенция не возвышается над по - шлостью ... (с. 138) |
Керек дезе интеллигенция уй - ан немелердек бийик к орунбей туру ... (с. 41) ‘Даже интеллигенция не выглядит выше неважнецких вещей’ |
Керек дезе интеллигенция уй - ан немелердек бийик к одурилбейт. (с. 26) ‘Даже интеллигенция не поднимается выше неважнецких вещей’ |
|
Пусть я выражаюсь пошло . |
Мен келишпес эрмек те ай -дып турган болойын.( с . 49) ‘Пусть я говорю неподходя щую речь .’ |
Мен келишпес эрмек те ай -дып турган болойын ... (с. 37) ‘Пусть я говорю неподходя щую речь .’ |
Иногда переводчики вынуждены заменять труднопереводимое слово – конкретное определение или название человека - словами оско / осколор ‘другие’, кижи ‘человек’:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обста-новка мучительна . (с. 135) |
Калтыраак ла jодулду оорулу улустарга ла оско до оору - ларла оорып тургандарга мындый айалга j арабазын Ан -дрей Ефимыч jарт билип j ат ... (с. 38) ‘Андрей Ефимыч ясно знает, что больным лихорадкой и кашлем, да и бо леющим другими болезнями такое положение не подходит.’ |
Калтырак ла чемет оорулу улуска, осколорине де мындый айалга jарабасын Андрей Ефимыч билер ... (с. 22) ‘Андрей Ефимыч знает, что больным лихорадкой и чахоткой, да и другим такое положение не подходит…’ |
|
пустынник |
бир кижи ‘один человек’ |
аалга jерде jуртаган бир ки-жи ‘один человек, живший в пустынном месте’– описательный перевод |
По-разному в переводах представлено слово душа. В традиционной культуре алтайцев нет понятия души, подобного русскому. У алтайцев различается несколько душ, каждая из которых имеет свои характеристики и свое название (кут ‘душа зародыша’, тын ‘душа-дыхание, жизненная сила человека’, су не ‘душа, покидающая человека в момент тяжелой болезни и смерти’, сур ‘душа-облик’). В силу своей специфики ни один из этих терминов не употребляется переводчиками для передачи русской лексемы душа. Как религиозное понятие душа, бессмертие души не имеют эквивалента в алтайском языке:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
бессмертие души |
кижиник ол ум j огы ‘бессмер- кижиник ол ум j огы ‘бессмертие человека’ тие человека’ |
В русском языке душа – многозначное слово, в том числе оно обозначает средоточие духовной и эмоциональной жизни человека, что в алтайском переводе соответствует нескольким лексемам: санаа ‘мысль, душа’, куун ‘желание, настроение, душа’, jурек ‘сердце’:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
душевная тревога |
санаазындагы jарты jок чо-чыду (с. 30) ‘неясный испуг в мыслях’ |
jарты jок чочыду (с. 11) ‘неясный испуг’ |
|
Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! |
Олорды акту санаамнан ут-куп ла суунип турум, олор учун суунип турум! (с. 49) ‘Приветствую их и радуюсь от искренних моих мыслей, радуюсь за них!’ |
Олорды акту куунимнен ут-куп, суунип турум, олор учун суунип турум! (с. 37) ‘Приветствуя их от искренней души (желания), радуюсь, радуюсь за них!’ |
|
благородство души |
ак - чек куунду (с. 25) ‘с честной душой (намерением)’ |
|
|
возмущенная, состра -дающая душа |
килеккей куун-тап букв. ‘сострадающее намерение, намерение сострадать’ |
– |
В редких случаях переводчики опускают то или иное труднопереводимое слово:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
моцион |
||
|
панталоны |
ич кийимдер ‘нижнее белье’ |
|
|
фитильная гарь |
фитильдик ыжы ‘дым от фитиля’ |
ыш ‘дым’ |
Иногда пропуск слова, например в устойчивых сочетаниях, может быть необходимым, а дословный перевод на алтайский язык выглядит искусственно и не передает значения русского сочетания. Так, сравнение как рак в позднем переводе опущено как не соответствующее ассоциативным связям алтайцев:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
он краснеет, как рак (с. 134) |
ол рак чылап кызарып... ол кызарып . ^(с. 20) ‘он, крас- (с. 37) ‘он, краснея как рак…’ нея…’ |
К примерам неверно понятых русских слов в том и другом переводе можно отнести следующие:
|
№ |
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
||
|
1 |
Утопить в отхо - жем месте ! (с. 144) |
Улус j урбес j ерде сууга чӧҥдӱрип салар керек! (с. 47) ‘[Его] нужно утопить в реке в месте , где не ходят люди ! ’ |
Ээн j ерде сууга чонурип са-лар керек! (с. 34) ‘[Его] нужно утопить в пустынном месте в реке!’ |
|
2 |
жид Мойсейка, ду-рачок |
Мойсейка деп керик ле тенек кижи ‘Мойсейка, жадный и глупый человек’ |
еврей укту Мойсейка деп тенек ‘дурачок Мойсейка еврейского рода’ |
|
3 |
жидовская лавка |
кериктердиҥ лавказы ‘лавка жадных’ |
еврейлердиҥ лакпасы ‘лавка евреев’ |
|
4 |
горячечные рубахи |
j ылу чамчалар ‘теплые рубахи’ |
кÿлÿлÿ чамчалар ‘рубашки с повязками’ |
|
5 |
богоугодное заведе -ние |
кудайга j арамзыыр заведение |
кудайга jарамыкту тура |
|
6 |
Дом и вся движимость были проданы с молотка ... (с. 125) |
Тура ла бастыра бар немелер маскадан ала садылган бол-гон … (с. 28) ‘Дом и все имеющиеся вещи начиная с молотка были проданы…’ |
Тура ла бастыра немелер са - дылып … (с. 8) ‘Дом и все вещи были проданы…’ |
|
7 |
городовой |
городовой |
городто jамылу ишчи ‘работник с высокой должностью в городе’ |
В предложении (1) отхожее место понято обоими переводчиками как ‘нехоженое место, место, где не ходят’. В примере (2) в первом тексте слово жид переведено как керик ‘жадный’, а жидовская лавка – соответственно как кериктердиҥ лакпасы ‘лавка жадных’ (3), в то время как в позднем тексте естественно выглядит русское заимствование еврей. Сочетание горячечные рубахи (в названии обозначено условие – горячка, – при котором надевается эта специальная рубаха) в переводе 1959 г. понято буквально как j ылу чамчалар ‘теплые рубахи’ (6); в тексте 2014 г. при переводе взят за основу признак покроя рубашки (с завязывающимися рукавами).
Определенные трудности вызывает перевод грамматических форм, разных синтаксических конструкций. Это отмечается даже при переводе с одного родственного языка на другой [Назаренко, 2010], а русский и алтайский относятся к разным языковым семьям и разным структурным типам.
Так, сложным оказывается перевод русских глаголов с залоговыми показателями. Первый переводчик для передачи семантики русского глагола представлен неудачно употребил алтайский глагол бер = ‘дать’, у которого эта семантика отсутствует, с показателем страдательного залога: бер = ил = ‘быть отданным’. Глагол бер = , как и многие другие алтайские глаголы в пассивной форме на = ыл, по отношению к человеку не употребляется. Смысловой перевод второго автора оказался более удачным: он использовал глагол кайралда = ‘награждать’ в форме каузативного залога – кайралда = т = ‘позволить наградить’, так как алтайский казуа-тив может передавать страдательное значение:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
– Поздравьте меня , – говорит он часто Ивану Дмитричу, - я пред - ставлен к Станиславу второй степени со звездой. (с. 130) |
Мени уткугар , Станиславтыҥ чолмонду экинчи степенин аларга мен бер = ил = ге - м (с. 33) ‘Поздравьте меня, я * передан получить вторую степень Станислава со звездой.’ |
Мени уткугар , мен Станиславтыҥ чолмонду экинчи степендÿ ордениле кайрал - да = д = ып j адым (с. 16) ‘Поздравьте меня, я награжден орденом Станислава второй степени со звездой.’ |
Для передачи семантики русского возвратного глагола отдаться в составе словосочетания отдаться отчаянию и страху в переводе 1959 г. также используется алтайский глагол бер = ‘дать’, но в форме возвратного залога (бер=ин= ):
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бро-сил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху (с. 128) |
Учы-учында мынан туза бол-бозын к оруп тура, Иван Дмитрич неме шуунип отура-рын токтодып койгон, кунук - чылду санаар - кашка ла кор - кыдуга бер = ин = ип ийген (с. 31) ‘В конце концов, видя, что от этого не будет пользы, Иван Дмитрич прекратил что-либо обдумывать, * отдался грустным переживаниям и страху.’ |
Арт-учында, мынан туза болбосын к оруп, Иван Дмит -рич неме шуунип отурарын токтодып, кунукчылду сана - аркашка ла коркыдуга ал = дыр = ган (с. 13) ‘Наконец, видя, что от этого не будет пользы, Иван Дмитрич прекратив что-либо обдумывать, был охвачен грустными переживаниями и страхом.’ |
Как и в предыдущем примере, первый переводчик старается сохранить грамматическую структуру русского глагола, но употребление бер = в данной конструкции выглядит искусственно. Семантика рассматриваемого русского глагола адекватно передана в переводе 2014 г., где используется глагол ал = ‘брать’ в форме каузатива (ал = дыр = ‘позволить взять’).
Вызвал трудности перевод новых для алтайского языка типов отношений, для которых свои средства выражения окончательно еще не сложились. Таковы, например, отношения соответствия, которые в русском языке выражаются сложными предложениями с союзом чем ... тем. В обоих переводных текстах для выражения этого типа отношений использована усилительная частица там ‘совсем, еще более, еще больше’ или ее сочетание с усилительной частицей ла . Однако эти средства не передают особенности семантики русской конструкции:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
. но чем умнее и логич-нее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога (с. 128) |
...jе бу керекти ол там ла ак-чегинче ле быжулап шуунип отурганда, jуреги там ла тыныда чочып, шыралап ту -рар боло берди (с. 31) ‘...но, когда он все более откровенно и основательно обдумывал это дело, его сердце, все более , сильнее пугаясь, стало мучиться. ’ |
.jе ол там ак-чегинче ле быжулап ш уунип отурганда, jуреги там чочып, шыралап турар боло берген (с. 13) ‘…но, когда он все более откровенно и основательно обдумывал [это], его сердце, все больше пугаясь, стало мучиться.’ |
В алтайском языке инфинитив представлен формой на = арга, которая восходит к причастной форме настояще-будущего времени на = ар в дательном падеже. У алтайского инфинитива имеются конкуренты – функционально близкие причастные или деепричастные формы, – которые в определенных конструкциях могут использоваться наряду или вместо формы на = арга.
В переводе 1959 г. в конструкциях с глаголами движения, где ожидается форма на = арга, используется форма = арына, которая представляет собой причастную форму настояще-будущего времени на = ар в дательном падеже с показателем 3-го л. = ы. Действительно, форма на = арына может употребляться вместо =арга, но, как правило, в конструкциях с некоторыми эмотивными глаголами:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
- Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру (с. 155) |
Слерди бойымнык jакым jаар Слерди бойымнык jакыма тартып ал арына мен бир де тартып ал арына мен бир де амадабай турум (с. 58) амадабай турум (с. 49) |
Использование этой формы в целевых конструкциях является грамматически неправильным:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
... доктор вышел прово-дить до ворот своего приятеля почтмейсте-ра (с. 144) |
. доктор бойынык jуук н0 к 0рин почтмейстерди во -ротага j етире уйдежип сал а - рына тышкаары чыккан (с. 46) |
...эмчи бойынык н0к0рин почтмейстерди каалгага jетире уйдежип кой орго тышкары чыкты (с. 33) |
|
Да, полагаю... Шпион или доктор, к которо-му положили меня на испытание, - это все равно (с. 149) |
- Эйе, сананып jадым... мени ченеп к о р о рине ийген шпион, эмезе доктор, онызы тукей ле (с. 52) |
- Эйе, сананып jадым. мени ченеп к о р о рг о ийилген кайу -чыл эмезе эмчи, орды jакыс (с. 41) |
В алтайском языке имена с аффиксом обладания = лу / = ту в функции сказуемого не принимают показателей лица и числа. В первом переводе имя аргалу ‘иметь возможность’ оформляется показателем лица, что грамматически некорректно:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом се -бе (с. 147) |
Кандый да айалга боло берген тужунда токунаалу болорын слер бойыгардак бойыгар та -ап алар арга = лу = гар (с. 50) |
Кандый ла айалгада токуналу болорын слер бойыгардак бойыгар таап алар аргалу (с. 38) |
|
И вы можете обла-дать ими, хотя бы вы жили за тремя решет -ками (с. 147) |
Слер уч решетканык кийнин -де де jадатан болзогор, слер де ол немелерле тузаланар арга = лу = гар (с. 50) |
Уч кат карчый-терчий тулку темирлерле б0кт0лг0н д0 jадатан болсогор, слер де ол немелерле тузаланар аргалу (с. 38) |
В переводах отражается влияние русского языка. Это можно увидеть на примере сложных предложений с временной семантикой. В русском языке общая временная соотнесенность выражается конструкциями с союзом когда . В алтайском языке им соответствуют конструкции с причастным зависимым сказуемым в форме местного падежа: = ганда, = арда. Первый переводчик в таких предложениях последовательно вводит союз качан ‘когда’, который семантически избыточен:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
Когда кто - нибудь ро -няет пуговку или лож -ку, он быстро вскаки-вает с постели и поднимает. (с. 124) |
Качан кандый бир кижи топ - Кем де топчы эмезе калбак чыны эмезе калбакты jерге ычкынып ий генде , т0ж0гинек тужурип ий генде , ол тура jyгуреле, ол немени ээзи- т0ж0гинек турген тура не алып берет. jyгуреле, тужурген немени (с. 6-7) ээзине алып берет. (с. 26-27) |
В обоих переводах встречаются кальки с русского языка. Так, в алтайском языке русской конструкции с порядковым числительным, обозначающей определенное время, соответствует описательная конструкция «количественное числительное в дательном падеже + час / са-ат ‘время’ + бар = ‘идти’». В данном случае предложение Был пятый час вечера должно быть переведено Экирдик беш чазына барып jаткан.
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
Был пятый час вечера (с. 150) |
Экиргеери ой бежинчи часка Экиргеери ой бежинчи саат-барып jаткан (с. 52) ка барып jаткан (с. 42) |
На основе двух переводов можно увидеть изменения, которые произошли в алтайском языке за 55 лет, т. е. со времени первого перевода (1959 г.).
Так, в первом переводе глагол в форме настояще-будущего времени на = ар в 3-м л. мн. ч. в подавляющем большинстве случаев оформляется показателем множественного числа, что в современном алтайском языке недопустимо. В «Грамматике ойротского языка» (1940 г.) даны два варианта формы 3-го л.: без показателя множественного числа и с таким показателем. При этом форма без показателя множественного числа дается как более употребительная [Дыренкова, 1940. С. 177]. В современном алтайском языке оформление глагола в форме 3-го л. показателем множественного числа факультативно, а в форме настояще-будущего времени на = (А)р невозможно. Это получило отражение во втором переводе:
|
Оригинал |
Перевод |
|
|
1959 |
2014 |
|
|
Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. (с. 147) |
Улустар, эмдиги ок чылап, оорып, карып ла ол уп турар - лар . (с. 49) |
Улус, эмдиги ок чылап, оорып, карып, ол уп турар. (с. 37) |
|
Там и пища здоровая, и уход, и лечение. (с. 169) |
Ондо аш-курсак та jакшы, кийнинек к оруп те турар лар , эмдеп те турар лар . (с. 71) |
Ондо курсак jакшы, кичееш, эмдеш. (с. 68) |
В первом переводе глагол в форме 3-го л. мн. ч. императива оформляется показателем = зындар . В «Грамматике ойротского языка» представлены два показателя императива 3-го л. мн. ч.: = зын и = зындар. При этом указывается, что первая форма используется чаще [Дырен-кова, 1940. С. 158]. В современном алтайском языке показателем 3-го л. ед. и мн. ч. повелительного наклонения является только = зын:
|
Оригинал |
Перевод 1959 2014 |
|
Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. |
Болор ло болбос кереги jок то Ол болор-болбос эш-кереги jок немелер ого jакшы к орунип то немелер ого jакшы тур зындар деп, ол сууп тура - к орунерин сууген. (с. 57) тан. (с. 63) |
(с. 160)
Переводчикам такого сложного произведения А. П. Чехова, как повесть «Палата № 6», пришлось решать вопросы, связанные с передачей новых реалий и понятий, а также нетипичных для алтайского языка синтаксических отношений. Они использовали такие приемы, как лексическое добавление, генерализация, калькирование, грамматическая замена, изменение структуры предложения и др.
Оба переводчика стремились сохранить близость к оригиналу, однако каждый перевод отражает состояние алтайского языка своего времени. Для перевода 1959 г. характерно сохранение русских слов, часто в неадаптированном виде, нетипичных для алтайского языка русских синтаксических конструкций, что иногда привносит некоторую искусственность в текст и затрудняет его понимание носителями алтайского языка. По замечанию А. Адарова, в 1950-е гг. уровень художественного перевода не вполне соответствовал образцам перевода. С одной стороны, существовала строгая цензура, которая следила за точностью перевода слова, а не передачи художественной мысли, – нельзя было даже переставлять слова в предложении [Киндикова, 2012. С. 175]. Опыт переводов А. П. Чехова на другие языки, в частности на чешский, показывает, что последовательное «стремление сохранить как можно большую близость к лексическому и синтаксическому строю подлинника» может утяжелить текст. Иногда важнее «найти более точные по смыслу и эмоциональному воздействию» соответствия на родном языке [Назаренко, 2010. С. 380–381, 384].
Перевод Т. Торбокова более адаптирован для алтайского читателя. В нем прослеживается творческий подход автора, его стремление шире использовать средства родного языка.
В настоящее время сложилась ситуация, в какой-то мере похожая на ситуацию конца 1940-х – начала 1950-х гг. По словам известного литературоведа Н. М. Киндиковой, «в литературах тюркских народов Сибири действительно образовался вакуум: старшее поколение, кого мы считали живыми классиками, ушло из жизни, новое еще не осмелилось выйти на арену» [2015. С. 12]. Появилось много новых имен, но они еще находятся в творческом поиске. После затишья 1990-х гг. вновь издается несколько переводных произведений, которые в некоторой степени восполняют нехватку новой оригинальной литературы. Однако следует отметить, что «после распада СССР активная деятельность в области перевода с языков народов Российской Федерации на русский язык и с русского языка на языки народов Российской Федерации и издание этих переводов существенно сократилось. Существовавшие в структуре центральных советских издательств специализированные редакции литературы народов СССР были закрыты в связи с закрытием или перепрофилированием самих издательств. Государственные квоты на издание этой литературы были отменены, ее целенаправленный библиографический и статистический учет прекращен» 1.
19 мая 2015 г. состоялось совместное заседание Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку, по итогам которого Владимир Путин подписал перечень поручений. В числе прочих поручение «обеспечить условия для подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования переводчиков художественной литературы с языков народов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 2.
Конечно, современная ситуация кардинальным образом отличается от довоенного и послевоенного времени, когда многие алтайцы не владели или плохо владели русским языком. Несмотря на то, что современный алтайский читатель может познакомиться с произведениями русской литературы в оригинале, все же есть необходимость в переводе. Удачные переводы произведений мастеров слова всегда обогащают язык-реципиент, положительно влияют на функционирование и сохранение родного языка, на развитие оригинальной литературы.
LEXICAL AND GRAMMATICAL TRAITS OF ALTAI TRANSLATIONS
OF A. CHEKHOV’S WARD No. 6
The article offers a review of two Altai translations of A. Chekhov’s Ward No. 6 made in different years. The first translation was published in 1959, in an anthology of Chekov’s short stories Куучындар edited by a then-beginning Altai writer and poet L. V. Kokyshev. The translator was not named. The second translator (2014) S. S. Torbokov (Tokshyn Torbokov) is a writer and a journalist, as well as the only professional translator in Altai. His translation is based on the earlier one; however, he reworked the earlier version taking into account the modern state of the literary Altai language.
We analyze the two translations to show some lexical and grammatical shifts that have occurred in the Alta language during the last 55 years. We study the means of expression of new concepts, as well as ideas not typical for Altai culture. We reveal that the abstract concepts and facts of Russian life in XIX century, as well as words related to spiritual culture, provide the greatest difficulties in translation, which is explained by differences in cultural and religious traditions. To convey the meaning of these words, translators use the following means: 1) preservation of Russian words in adapted or non-adapted forms; 2) selection of appropriate Altai equivalents; 3) creation of new words on the basis of existent linguistic means; 4) omission of problematic lexemes. Translators also used lexical addition, generalization, calques, changes in grammatical and syntactic structures, etc.
Some difficulties were caused by certain types of syntactic relations that haven’t yet been assimilated by the Altai language (for example, relations with the meaning of correspondence expressed by complex sentences with ‘чем … тем’ in Russian).
Список литературы Лексические и грамматические особенности алтайских переводов повести А. П. Чехова "Палата № 6"
- Бедюров Б. Я. Высоколобых западных экспертов будут учить чукчи и индейцы. 2015. URL: http://www.gumilev-center.ru/brontojj-bedyurov-vysokolobykh-zapadnykh-ehkspertov-budutuchit-chukchi-i-indejjcy/ (дата обращения 05.06.2017).
- Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка: Моногр./ Под ред. С. Е. Малова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 303 с.
- Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.
- Казагачева З. С. Алтайская советская литература послевоенного периода // Очерки по истории алтайской литературы: Моногр./ Под ред. С. С. Суразакова. Горно-Алтайск, 1969. С. 98-106.
- Каташ С. С., Катынова С. Ш. Литература периода Великой Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия // История алтайской литературы: Коллект. моногр./ Под ред. Р. А. Палкиной. Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2004. Кн. 1. С. 236-256.
- Киндикова Н. М. Зарубежная литература в переводе: проблема инонационального восприятия // Диалог культур: поэтика локального текста: Материалы III Междунар. науч. конф. Горно-Алтайск, 6-9 сентября 2012 г./ Под ред. Н. С. Гребенниковой. Горно-Алтайск, 2012. С. 172-180.
- Киндикова Н. М. Новейшая алтайская литература: вопросы жанра и стиля // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2015. № 3 (11). С. 11-17.
- Мирзабаева А. М. Переводы произведений Чехова на иностранные языки // Молодой ученый. 2015. № 4. С. 787-792.
- Назаренко Л. Ю. Драмы А. П. Чехова в чешских переводах: история и современность // Русский язык и культура в зеркале перевода. К 150-летнему юбилею А. П. Чехова: Материалы II Междунар. науч. конф. М., 2010. С. 380-385.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1983. 816 c.
- Чехов А. П. Собр. соч. М.: Худож. лит., 1956. Т. 7: Повести и рассказы (1888-1891). 519 с.
- Чехов А. П. Куучындар (Рассказы)/ Под ред. Л. В. Кокышева. Горно-Алтайск, 1959. 247 с.
- Чехов А. П. Алтынчы палата / Пер. Т. Торбокова. Горно-Алтайск: Изд-во Алтын-туу, 2014. 303 с.