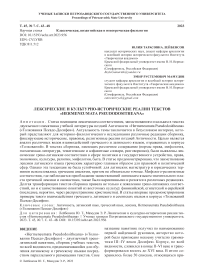Лексические и культурно-исторические реалии текстов «Hermeneumata pseudodositheana»
Автор: Лейбенсон Юлия Тарасовна, Мамудов Эмир Рустемович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Классическая, византийская и новогреческая филология
Статья в выпуске: 7 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена лексическим соответствиям, заимствованиям и калькам в текстах двуязычного памятника учебной литературы поздней Античности «Hermeneumata Pseudodositheana» («Толкования Псевдо-Досифея»). Актуальность темы заключается в безусловном интересе, который представляют для историко-филологического исследования различные редакции сборника, фиксирующие исторические, правовые, религиозные реалии поздней Античности. Целью является анализ различных видов взаимодействий греческого и латинского языков, отраженных в корпусе «Толкований». В текстах сборника, имеющих различное содержание (нормы права, мифология, гномическая литература, тематические и алфавитные словари, разговорники), были выявлены лексические греко-латинские соответствия в сфере политики и государственного устройства, права, экономики, культуры, религии, мифологии, быта. В статье продемонстрировано, что заимствование лексики латинского языка греческим характерно главным образом для правовой и политической сфер. Однако эта тенденция не была устойчивой: для латинских магистратур и юридических терминов использовались греческие аналогии, притом не обязательно точные. Мифолого-религиозные соответствия, где наблюдается преобладание заимствований латинским языком значительного пласта греческой лексики и ономастики, также были вариативными и разнятся в различных редакциях. Долгая трансформация текстов сборника привела не только к появлению греко-латинских соответствий, но и к заимствованию понятий из восточных культур: финикийской, египетской и еврейской (последнее, вероятно, через распространение христианства). В статье впервые продемонстрированы примеры такого взаимодействия греческого, латинского и семитских языков в корпусе «Толкований Псевдо-Досифея».
Античность, латинский язык, греческий язык, лексика, hermeneumata pseudodositheana («толкования псевдо-досифея»)
Короткий адрес: https://sciup.org/147241129
IDR: 147241129 | УДК: 811.512 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.956
Текст научной статьи Лексические и культурно-исторические реалии текстов «Hermeneumata pseudodositheana»
«Hermeneumata Pseudodositheana» («Толко -вания Псевдо-Досифея») – двуязычный греколатинский памятник, сборник учебных текстов, по всей видимости, предназначавшийся для обучения латинскому и греческому языкам посредством параллельного размещения текстов. Свое
название памятник получил по наименованию первой найденной рукописи, авторство которой было приписано некоему учителю грамматики III–IV веков Досифею. Корпус, по всей видимости, сложился в конце II–VI веке и трансформировался вплоть до XVI века. В итоге сохранилось более 50 списков, относящихся при- мерно к 6–10 различным редакциям (версиям) [1: 122–123], [2: 16–20].
Hermeneumata в наиболее полном варианте включает следующий набор текстов: а) диалоги (коллоквиумы) на повседневные темы; б) алфавитные и тематические словари; в) Divi Adriani sententiae et epistulae («Адриановы сентенции» или «Суждения и письма Божественного Адриана»; г) 18 басен, приписанных Эзопу; д) 32 кратких изречения дельфийских мудрецов; е) ответы индийских «гимнософистов» Александру Великому (Responsa sapientium); ж) сочинение о процедуре отпущения рабов на волю (Tractatus de manumissionibus); з) фрагменты «Генеалогий» Гигина (Hygini genealogia); и) прозаический пересказ «Илиады» Гомера1 [3].
Поскольку тексты «Hermeneumata Pseudo-dositheana» представлены в греческом и латинском вариантах, дериваты и лексические соответствия являются замечательными примерами отражения культурных, политических, социально-экономических реалий поздней Римской им-перии2.
МАГИСТРАТУРЫ ГРАЖДАНСКИЕ И ВОЕННЫЕ
Латинское слово imperator передается в «Hermeneumata Pseudodositheana» греческим αὐτοκράτωρ , что соответствует традиции передачи титула римского монарха (напр.: Plut. Galba, 1). В текстах сборника (в частности, в «Адриановых сентенциях») встречается устойчивая форма обращения к императору Domine imperator , соответствующее в греческом тексте Κύριε αὐτοκράτορ . Кроме того, в словарях (в частности, в версии Montepessulana) обнаруживается соответствие βασιλεύς = imperator 3.
В латинском варианте текста «Адриановых сентенций» Адриана именуют принцеп-сом (лат. princeps), в греческом этому слову соответствует ἄρχων (то есть ‘архонт, правитель’). Примечательно, что в глоссарии версии Montepessulana princeps соотнесен с терминами μοναρχος и εβαρκος. При этом эпарх (ἔπαρχος) соответствует также префекту (praefectus4). Это вполне устоявшееся соответствие: византийский ἔπαρχος τῆς πόλεως (‘эпарх города’) – наследник позднеримского praefecrus urbi5. Примечательно, что в глоссарии по версии Montepessulana наименование наиболее важной гражданской административной должности в поздней Римской империи – префект претория (praefectus praetorio) соответствует επαρκος πρετωριον6. При этом для «префекта» греческий аналог находится, а латинский термин «преторий» (praetorium) заимствуется. Кроме того, встречается и следую- щее соответствие: praefectus aerarii = ἔπαρχος γαζοφυλακίου (букв. ‘эпарх казны’).
Латинское наименование должности претора ( praetor ) передается в текстах «Hermeneumata» также с помощью двух греческих терминов: πρα ίτωρ (то есть буквальное заимствование) или στρατηγός . Передача латинского термина «претор» на греческий не была устоявшейся. Это объясняется, вероятно, расхождением функций древнегреческого стратега и римского претора: преторская магистратура включала военные, судебные, порой экстраординарные обязанности. Тем не менее у античных авторов встречается такое соответствие: Тит Ливий называет стратега ахейцев претором (Liv. XXXV, 26); Цицерон, обращаясь к сюжету о Перикле и Софокле, именует их обоих преторами, что соответствует греческой стратегии (Cic. De off. I, 144).
Магистратура проконсула ( proconsul ) в текстах «Толкований» передается греческим термином ἀνθύπατος . Этот термин образован от греч. ὕπατος ‘владыка’, как и в случае с проконсулом, путем прибавления приставки. В словарях «Толкований» приводится соответствие греческого ὕπατος и латинского consul 7, что совпадает и со словоупотреблением в памятниках исторической литературы (например, у Диодора Сицилийского – Diod. Syc. XXIII. 1).
Прокуратору ( procurator ) в текстах «Herme-neumata» соответствует ἐπίτροπος 8. Обе должности так или иначе связаны с управлением имуществом; постепенно, с расширением императорской власти, прокураторы получали все большее значение, вплоть до заведования императорским имуществом и его фиском, назначения в провинции; эпитропы же в греко-византийском праве известны как управители имущества.
Декуриону ( decurio ; командир кавалерийского подразделения) соответствует πρωτοπολίτης (букв. ‘первый гражданин’) [3: 189]. Это соответствие довольно интересно, потому как данному латинскому термину обычными греческими эквивалентами являются βουλευτής и δεκουρίων [3: 254].
Греко-латинские аналогии в номинации магистратур были достаточно устойчивы, закрепились в эпиграфических памятниках9. Как в ряде греческих надписей имперского периода, так и в словарях «Hermeneumata» (в частности, редакции Montepessulana) обнаруживаются устоявшиеся соответствия для обозначения титулатуры императора: σεβαστός = augustus, ἀρχιερεὺς μέγιστος = pontifex maximus, δήμαρχος = tribunus plebis, αὐτοκράτωρ = imperator, ὕπατος = consul, τιμητής = censor 10.
Еще одна интересная особенность перевода общественно-политической лексики – описательные модели для передачи форм правления в латинском языке. В глоссарии версии Einsidlensia монархия интерпретирована как «господство одного достойного» ( μοναρχία = principatus unius boni ), тирания как «господство одного недостойного» ( τυραννίς = principatus unius mali ), а олигархия – «господство немногих недостойных граждан» ( ὀλιγαρχία = principatus paucorum civium malorum ).
ПРАВОВАЯ ЛЕКСИКА
Терминология из римского права зачастую ожидаемо заимствовалась в греческих текстах. Однако находились в греческом языке и аналоги. Кроме того, в текстах «Толкований Псевдо-До-сифея» встречается интересное калькирование. Подобные случаи находим в глоссариях различных редакций, а также в текстах «Адриановых сентенций» и трактате «О манумиссиях».
Термин, обозначающий гражданское право, выражен соответствиями: ius civilis = ius quiritum = δίκαιος πολιτικός 11. Тексты правового характера содержат греческие аналогии для таких терминов римского права, как: отпуск раба на волю ( manumissia = ἀπελευθερία ; при этом ἀπελεύθερος = libertus ); процедура освобождения vindicta (фактически – жезл претора, которым он касался головы раба) = προσαγωγή (приведение, возведение); содержание иждивенца ( alimenta = τροφεῖα ); имущественный ценз ( census = ἀποτίμησις ), опекунское поручительство ( auctoritas = αὐθεντία ), залог ( pignus = ὑποθήκη ) и ряда других понятий12.
Интересно лексическое соответствие термина advocates = συνήγορος . Институт древнегреческой синегории (то есть адвокатской прослойки – защитников на суде, за вознаграждение писавших речи и дававших консультации) известен с классического периода. Кроме того, в глоссарии версии Stephani встречается соответствие συνήγορος = patronus causae (более архаичное наименование защитника, употреблявшееся до установления Империи).
Греческому сикофанту ( συκοφάντης ) соответствует calumniator 13 («клеветник, лжесвидетель») в словарях Hermeneumata Leidensia.
Римский институт патроната не находил явного соответствия в греческих реалиях и языке, поэтому для слова «патрон» (лат. patronus) в греческом тексте закона о манумиссиях использовано заимствование πάτρων. Заимствованы и такие понятия, как «Юниевы латины» и «лати-ны-колонарии», то есть категории вольноотпу- щенников (получивших права по закону Юния, принятому при императоре Тиберии) и коренных жителей колоний: Latini Iuniani = Λατῖνοι Ἰουνιανοί, Latini colonarii = Λατῖνοι κολωνάριοι. Примечательна калька в греческом тексте, соответствующая римскому узуфрукту (праву пользования имуществом с получением дохода): usus et fructus = ἡ χρῆσις καὶ ὁ καρπός14.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА
Некоторые немногочисленные лексические соответствия и заимствования экономического и бытового порядка также встречаются в текстах «Hermeneumata Pseudodositheana». Так, денарий ( denarius ) передается в греческом варианте текста в ряде случаев как греч. δραχμή – драхма. Выбор лексики составителем текста вполне объясним: вес римского денария (по крайней мере, периода Республики) и аттической драхмы сопоставим. В первом случае это около 4,55 г, во втором – 4,36 г. В то же время в тексте встречается заимствование δηνάριον 15. Это лексическое заимствование широко известно и по другим письменным источникам. Так, δηνάριον встречается в текстах Нового Завета (Мф. 20:2, Мк. 12:15, Лк. 20:24, Ин. 12:5).
Примечательно и заимствование в греческом варианте текста названия особой формы солдатских полусапог – caligae («калиги»). В греческом варианте калиги названы καλίγια . В другом же случае встречается довольно интересно подобранное лексическое соответствие – σανδάλια , соотносящееся с уменьшительно-ласкательной формой caligula 16.
РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА
В глоссариях и текстах для чтения корпуса «Hermeneumata» представлен и мир богов. Греко-латинские соответствия содержатся в глоссариях, «Генеалогиях» Гигина и повести о Троянской войне. В «Генеалогиях» греческие божества, находящие аналоги в римском пантеоне, ожидаемо в латинской части текста передаются римскими именами: Ζεύς = Iuppiter, Ἥρα = Iuno, Ἀφροδίτη = Venus, Ἄρης = Mars и т. д. Имена немногочисленных богов, не находящих соответствия в римской мифологии, а также практически всех героев и названия мифических существ переданы без изменений в латинской графике: например, Ἀπόλλων = Apollo, Μοῦσαι = Mousae, Προμηθεύς = Prometheus, Δαίδαλος = Daedalus, κένταυρος = centaurus. Так же поступают переводчики и в повествовании о Троянской войне: при имеющихся соответствиях Ζεύς = Iuppiter и Ποσειδῶν = Neptunus имена всех греческих и троянских героев передаются в латинском тексте без изменений17.
Глоссарии значительно дополняют картину религиозно-мифологических соответствий. Так, в редакциях Leidensia, Amploniana, Einsidlensia, Monacensia и Montepessulana в разделе « ὀνόματα θεῶν = nomina deorum » содержатся не только имена божеств, но и эпитеты, относящиеся к группам божеств. Например, в версии Einsidlensia предлагаются эпитеты: бессмертные ( οἱ θεοί ἀθάνατοι = dii immortalis ), благосклонные ( οἱ θεοί ἵλεῳ = dii propitii ), подземные, то есть маны ( οἱ θεοί ὑπόγειοι ἤ καθαχθόνιοι = manes ), домашние, то есть лары или гении ( οἱ θεοί κατοικίδιοι = lares, genii ), отеческие, то есть пенаты ( οἱ θεοί πατρῶοι = penates ).
Словарные перечни богов показывают, что заимствование имен божеств в редких случаях могло происходить не только из греческого языка в латинский, но и наоборот: ὁ Σίλβανος = Silvanus .
Перечень богов неодинаков в различных редакциях текста. В некоторые включены популярные в греко-римском мире малоазийские и египетские божества: Адонис, Серапис, Исида. При этом передача имени египетской богини также различна. Если в версиях Montepessulana, Amploniana Εισις = Hisis = Isis , то в Stephani Isis = Φαρία (очевидно, имеется в виду эпитет Фаросская)18.
В глоссарии (в Leidensia и Amploniana) попало даже слово beutylos = abbadir , означающее в финикийском культе одно из божеств или камень, упавший с неба и являющийся обиталищем божества. В греческой мифологии слово βαίτυλος было заимствовано для обозначения камня, который Рея скормила Кроносу вместо младенца Зевса (камень этот хранился в дельфийском святилище – Paus. X. 24. 5). Но латинского соответствия для термина не было19.
Поскольку корпус «Hermeneumata» складывался из различных и разновременных текстов, между глоссариями и текстами для чтения возникали противоречия. Так, в басне «О больном»20, приписанной Эзопу, и для Аида (в значении подземного царства), и для Харона находится один латинский аналог – Orcus. При этом Monacensia все же предлагает разграничивать название подземного царства и имя его обитателя: caron = orcus, adis = inferi . Подобным же образом в «Генеалогиях» Гигина мы видим заимствования греческого слова «музы», Μοῦσαι = Musae . Но в глоссарии Monacensia для Муз предлагается латинский аналог: muse = camene 21.
ИНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ
В глоссариях корпуса «Hermeneumata» обнаруживается не только греко-латинское языковое взаимодействие. Как было отмечено выше, в разделы с именами божеств попало слово финикийского происхождения. Еще более пестрая карти- на представлена в словарях редакций Leidensia и Einsidlensia, где содержатся разделы с сопоставлением месяцев различных греческих и римского юлианского календарей, а также календарей еврейского и египетского. При этом для еврейских месяцев найдены соответствия в юлианском календаре, а египетские месяцы переданы в греческой графике, но без соответствий22.
Вот как выглядит передача месяцев еврейского календаря в греческой (по версии Einsidlensia) и латинской (по Leidensia) графике вместе с соответствующими месяцами юлианского календаря:
μῆνες Ἑβραίων, menses Hebraeorum
νησαν = nisan = martius , то есть нисан (ניסן), ο ἰάρ = isar = aprilis 23, то есть ияр (איר), σιεθονάν = siuan = maius , то есть сиван (סיון), θαμνί = thamnus = iunius , то есть таммуз (תמוז), ἄβ = dustrus 24 = iulius , то есть ав (אב), ἐλουλ = elul = augustus , то есть элул (אלול), θερσί = thisri = september , то есть тишрей (תשרי), μουρσονάν = marisan = october , то есть хешван (חשון) = мархешван (מרחשון),
χασαλευ = casleu = november , то есть кислев (כסלו), τεβέθ = thesbeth = december , то есть тевет (טבת), σαβάθ = sabath = ianuarius , то есть шеват (שבט), ἀδάρ = adar = februarius , то есть адар (אדר).
Несмотря на то что в еврейском календаре, как и в юлианском, 12 месяцев, это соответствие лишь условно. Месяцы лунно-солнечного еврейского календаря не совпадают с месяцами солнечного юлианского. Кроме того, еврейский год имеет подвижную дату новолетия. Можно лишь указать, что нисан примерно соответствует марту – апрелю, ияр – апрелю – маю и т. д. Однако сам по себе интерес составителя глоссария к еврейскому календарю примечателен.
Месяцы египетского календаря ( μῆνες Αἰγυπτίων = menses Aegyptiorum ) переданы только в версии Einsidlensia:
τοβι , то есть тиби,
χωίχ ,
φαμενώθ , то есть фаменот,
φαρμονθί , то есть фармути,
μενωά ,
ζωρυχ 25,
ἐπιφί , то есть эпифи,
μεσορί , то есть месори,
θωθ , то есть тот,
φαωφί , то есть фаофи,
αθίρ , то есть атир, χοιάχ , то есть хойяк.
Интерес к египетской культуре характерен для всей античной эпохи, поэтому проникновение египетских месяцев в греко-латинские глоссарии не особенно удивительно. Перечисление же месяцев еврейского календаря смотрится несколько неожиданно и может быть объяснено поверхностной «христианизацией» текста глоссариев. Это пред- положение подтверждается наличием в глоссарии Einsidlensia разделов «περὶ τῶν ἀγγέλων = de angelis» и «περὶ τῶν ἐν τῷ Ἅιδῃ = de iis quae in inferno»26.
В разделе об ангелах перечислены хоры ( χοροί = chori ) или разряды (τάγματα, τάξεις = ordines ) небесных жителей: ангелы, архангелы, силы ( δυνάμεις = virtutes ), власти ( ἐξουσίαι = potestates ), начала ( ἀρχαί = principatus ), господства ( κυριότητες = dominationes ), престолы ( θρόνοι = throni ), херувимы ( τὰ χερουβείμ = cherubim ), серафимы ( τὰ σεραφείμ = seraphim ) – шестикрылые ( τὰ ἐξαπτέρυγα ) и многоочитые ( τὰ πολυόμματα ). Этот перечень ангелов отсылает именно к христианской традиции, в одном из ранних вариантов выраженной в «Апостольских постановлениях» (VII. 35). В разделе, посвященном обитателям и топографии подземного царства, наряду с Эвменидами ( αἱ Εὐμενίδες = Eumenides, Furiae ), Мойрами ( αἱ Μοῖραι, αἱ Κῆρες = Parcae ) и Летой ( ἡ Λήθη = Oblivio ) упомянуты Дьявол ( ὁ Διάβολος = Calumniator, Diabolus ), Велиар ( ὁ Βελίαρ = Beliar ) и Геенна ( ἡ Γέεννα = Geenna ).
ВЫВОДЫ
Таким образом, в «Толкованиях Псевдо-Доси-фея» не очень системно, калейдоскопически, но явственно отражен поликультурный мир поздней Империи. Тексты «Hermeneumata Pseudo-dositheana» демонстрируют, как обширный пласт лексики философского, научного, религиозно-мифологического характера заимствовался латинским языком из греческого. В то же время термины из политической и правовой практики неизбежно проникали в греческий язык из латыни. Этот процесс показывает, какой язык, а соответственно, и стоящая за ним культурная общность доминировали в определенной сфере. Кроме того, отдельные редакции «Толкований Псевдо-Досифея» отражают интерес позднеантичного мира к восточным культурам, чья терминология выборочно проникала в греколатинские лексиконы. Тексты «Hermeneumata Pseudodositheana», безусловно, открывают перспективу дальнейшего историко-филологического изучения этих процессов.
Список литературы Лексические и культурно-исторические реалии текстов «Hermeneumata pseudodositheana»
- Баранникова Н. Б. Обучение словам через разговор: греко-латинские диалоги на переходе от Античности к Средневековью. Диалоги из учебника Псевдо-Досифея // Возлюблю слово как ближнего: Учеб -ный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье: исследование состава школьного канона III- XI вв.: Сб. науч. ст. и пер. / Гл. ред. М. Р. Ненарокова. М.: Индрик, 2017. Вып. 19. С. 109-189.
- Dickey E. The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana. Vol. 1: Colloquia Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani. Cambridge: CUP, 2012. 283 p.
- Dickey E. The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana. Vol. 2: Colloquium Harleianum, Colloquium Montepessulanum, Colloquium Celtis, and fragments. Cambridge: CUP, 2015. 334 p.