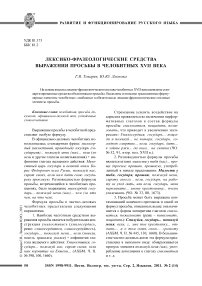Лексико-фразеологические средства выражения просьбы в челобитных XVII века
Автор: Токарев Григорий Валериевич, Леонова Юлия Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа лексико-фразеологического состава челобитных ХVII века выявлены стандартизированные средства объективации просьбы. Выделены и описаны традиционные формулярные элементы челобитных: свободные и обязательные лексико-фразеологические стилевые элементы просьбы.
Челобитная, просьба, документ, официально-деловой акт, устойчивые словосочетания
Короткий адрес: https://sciup.org/14969581
IDR: 14969581 | УДК: 81.373
Текст научной статьи Лексико-фразеологические средства выражения просьбы в челобитных XVII века
Выражение просьбы в челобитной представляет особую формулу.
В официально-деловых челобитных использовалась стандартная фраза: милосердый (милостивый, праведный) государь (государыня)... пожалуй меня (нас)... вели ( не вели и другие глаголы волеизъявления) + инфинитив глагола желаемого действия: Милостивый царь государь и великий князь Борис Федорович всеа Русии, пожалуй нас, сирот своих, вели нам дати свою государеву проезжую. Разновидностью формулы просьбы, встречающейся в челобитных прошениях, было выражение милосердый государь... пожалуй меня (нас)... чем (за что чем, на что чем).
Формула просьбы в частно-деловых челобитных представлена следующими вариантами.
-
1. Наиболее частотным средством выражения просьбы является побудительная конструкция умилостивисъ ( умилосердись , реже: смилосердитеся, смилосердуйтесъ ), государь... пожалуй меня... вели ( повели, поволь, прикажи, укажи ) + инфинитив глагола желаемого действия: Умилостивися, государь... пожалуй нас, сирот своих, вели нам кормитца на Екшени... (АХБМ. Ч. II. № 398, 100, 1660).
-
2. Разновидностью формулы просьбы является штамп милости у тебя (вас)... прошу (просим; прошаю, прошаем) , употребленный в начале предложения: Милости у тебя, государя, прошаю , пожалуй меня, сироту своего... вели, государь, на работу за уход дать, или вели, государь, меня перемените... иному крестьянину... пчелы ухаживать (ЧО. № 33, 80, 1673).
-
3. Просьба может быть выражена контаминацией конечного протокола и одной из формул просьбы, описанных выше: она начинается с формы императива глаголов смиловаться, пожаловать (реже – помиловать, пощадить ): Смилуйся, государь... пожалуй меня , вели, г., мне тое крестьянку... отдать... и о том дать свою... грамоту (АХБМ. Ч. II. № 445, 130, 1660). В большинстве частно-деловых актов эта формула представлена в неполном виде: обнаруживается пропуск элемента пожалуй меня (нас) , употребление дополнения к глаголу смиловаться и т. д.
Стремление усилить воздействие на адресата проявляется во включении перформативных глаголов в состав формулы просьбы: смиловаться, пощадить, помиловать , что приводит к увеличению экспрессии: Умилосердися, государь... пощади и помилуй... не помори, государь, голодною смертию... вели, государь, дать... в займы ржи... да овса... на симяна (ЧО. № 52, 91, втор. пол. XVII в.).
Повторением глаголов просьбы, мольбы, многократным использованием обращений, эмоционально-экспрессивных приложений и эпитетов челобитчик стремился усилить воздействие на адресата. Эти трансформации формулы просьбы отражают влияние обиходно-разговорной речи.
Формулы, в которые заключается содержание просьбы в частно-деловых челобитных, обнаруживают структурные и лексические отличия от соответствующего клише официально-деловых челобитных, в частности в составе формул активно используются глаголы умило-стивисъ, умилосердись, смилуйся, пожалуй, пощади, помилуй . Обилие вариантов формул просительного раздела, по словам А.Н. Качалкина, «свидетельствует о меньшей обученности авторов (писцов), об их стремлении добиться большего воздействия на адресата, побудить его к выполнению просьбы, которую вотчинник или помещик волен был удовлетворить» [2, с. 107]. Лексический состав формулы просьбы в частно-деловых челобитных разнообразнее, чем в официально-деловых. Представлено большое количество обиходно-бытовых слов: ознобить (озяблою смертью), поморить (голодом), посправиться .
При изложении содержания просьбы в состав формулы включаются глагольно-именные устойчивые сочетания, относящиеся к приказно-деловой, юридической терминологии: учинить указ ‘вынести решение’, дать суд (суд и управу) ‘назначить судебное рассмотрение дела’, дать кого-л. на поруки , (за) пристава ‘передать кого-л. на чье-л. поручительство (под охрану)’, дать очную ставку или поставить кого-л. с кем-л. на очную ставку ( с очей на очи ), поставить в приказе ‘допросить в судебном органе в присутствии истца и свидетелей’, дать сроку ‘отсрочить судебное разбирательство’ и др.
Не останавливаясь подробно на анализе данных устойчивых конструкций (они подробно рассмотрены в ряде работ, посвященных юридической терминологии XVII века), отметим, что использование этих вошедших в общенародное употребление приказно-деловых устойчивых словосочетаний характерно для судебных документов: официальноделовых исковых, отсрочных, ставочных челобитных.
В повинных челобитных используется фразеологическое сочетание отдать вину (‘простить’) или клише а в вине моей (нашей) ты... волен : Милостивый царь... смилуйся над нами, вину нашу отдай (АИ. Т. 2. № 101, 133, 1608).
В изветных, мировых, ставочных и явочных челобитных официального характера просьба могла содержать клаузулу о записи челобитья, то есть об официальной регистрации акта: Милосердый государь, пожалуй меня, х. своего, вели мое челобитье записать (СиД. № 2, 2, 1616). Такая запись, как отмечает И.П. Майоров, избавляла челобитчика от обвинений, подозрений, прекращала судебный процесс и т. д. [3, с. 37].
Вместо клаузулы о записи в повинных челобитных могла употребляться просьба принять челобитную (повинную): Вели, г., чело-битьишко мое и повинную принять (СиД. № 308, 569, 1649).
Рассмотренные устойчивые словосочетания, соединяясь с элементами формулы просьбы, создавали юридическую завершенность челобитной как одного из видов актовой письменности, а также выступали обязательной приметой данного жанра.
В состав просительной части челобитных – прошений, исковых, изветных часто вводились специальные формулы-предложения, которые не имели юридического характера, а выполняли экспрессивно-эмоциональную роль. К ним можно отнести придаточное предложение, в котором подчеркивалось, что челобитчик рассчитывает на добрую волю того, к кому обращается: что (кому, где, как, почему, чем) ты... укажешь (пожалуешь ): Вели, гсдрь, про тот позор и лаю отца моево и матери моей и мои... сыскат, кому ты, гсдрь, укажешь (МДБП. 2. № 33, 61, 1639).
Большей эмоционально-экспрессивной окраской обладала используемая в этих же целях формула, включающая придаточное предложение и глагол пожаловать: пожалуй нас, как (что, чем, где, сколь, сколько) тебя (тебе)... (обо мне, о нас)... бог (господь бог, дух божий) известит. Эмоциональность этой формулы усиливалась постоянными эпитетами всемогущий, милосердый, пресвятой, праведный, относящимися к словам Бог и государь: Милосердые госу- дари... пожалуйте меня... для того, что вор Стенька у меня... взял животишек моих на 4000 рублев... как вам, великим государем, всемогущий господь Бог известит (РД. 3. № 302, 380, 1683).
В частно-деловых челобитных в формулу просьбы могли включаться пожелания быть внимательным, благожелательным: Умилостивися, государь... воззри , г., своим милостивым оком , вели, г., дать (АХБМ. Ч. II. № 358, 73, 1658); Умилостивися, государь... пожалуй нас ... не отгони , г., от своей боярской милости , вели (АХБМ. Ч. II. № 524-2, 178, 1660).
Традиционными элементами просительной части официальных и частных че-лобитий были эмоционально-экспрессивные формулы, указывавшие на возможные последствия, к которым могло привести неудовлетворение просьбы челобитчика. Эти словосочетания, характерные для всех разновидностей челобитных, присоединялись к формуле просьбы при помощи придаточного предложения с союзом чтобы , относящегося к словосочетанию пожалуй меня (нас) или к одному из глаголов желаемого действия.
К этой группе выражений относится словосочетание: отбыть ( остатъ, отстать ) дела ( службы, податей, пашни, работишки, тягла и т. д.) ‘перестать исполнять какие-л. обязанности, обусловленные социальным положением челобитчика’. Формула эта всегда употребляется с отрицанием, а глагол чаще выступает в форме инфинитива: Милосердый государь... пожалуй нас [казаков]... жалованьем... чтоб нам... до конца не погинуть и вперед твоей царской службы, не остать (СПП. 1, 6–7, 1613).
В частно-деловых челобитных наряду с отбыть ( остать, отстать ) тягла ( податей, пашни, изделъя ‘барщины’, заделья ‘барщины’) в значении ‘перестать выполнять крестьянские обязанности’ встречается также отбыть ( отстать ) домишка ( домишки , от домишка ) ‘перестать быть крестьянином, пойти по миру’: Вели, г., про то... сыскать... и по сыску... указ учинить, чтоб мне... вконец не погинуть и впредь твоего государева тег-ла и податей не отбыть (АХБМ. Ч. II. № 450-2, 134, 1660).
Особые конструкции использовались в тех случаях, когда челобитчик хотел подчеркнуть возможные имущественные, финансовые и иные последствия неудовлетворения его просьбы, жалобы – «глагол быть с отрицанием + краткое или полное страдательное причастие в дательном или творительном падежах – не быть забиту (замучену, испрода-ну, непроданной, истощенной) в чем (за что, по какой причине)»; при этом глагол находится, как правило, в конце предложения: Вели, государь, сю мою челобитную послать... к Москве, чтоб мне... а той твоей, великого государя, казне на правеже до смерти за-биту не быть (РД. 2-1. № 153, 181, 1670).
Если в официально-деловых челобитных речь шла о последствиях разного рода (наказании, денежном штрафе, разорении), то использовалась формула « не быть + предложный падеж отглагольного существительного с предлогом в »: не быть в опале (в пене ‘денежном штрафе’, в смертной казни, в позоре, в попреке ‘осуждении’, в разоренье) , глагол также ставился в конце предложения: Вели, государь, челобитье наше и извет записать, чтоб нам... от тебя, великого государя, в опале и в смертной казне не быть (РД. 2-1. № 151, 179, 1670).
Возможность физической гибели челобитчика и членов его семьи выражалась с помощью формул: 1) глагол + творительный тавтологический – умереть ( помереть ) голодною ( напрасною, нужною, холодною ) смертью от чего (без чего) или 2) глагол в форме прошедшего времени + родительный падеж – умереть ( помереть ) с голоду ( голодом ). Первая носит более книжный (приказно-деловой) характер, вторая имеет обиходно-бытовую окраску: Вели, государь, нам... мhсячной корм... выдать, чтоб нам... без корму голодною смертью не умереть (АЮ. № 40, 88, 1645); Вели мне свое... жалованье дать, как моим товарищем, чтоб я, холоп, голодом не умер (СПП. 1. 26, 1613).
В частно-деловых челобитных эти формулы могли использоваться непосредственно в формуле просьбы; в данном случае мы имеем дело с разговорной трансформацией традиционных для челобитных формул: Умилосер-дися, государь... вели... меня из тюрьмы свободна учинить, не вели голодною смертью уморить (АХБМ. Ч. I. №79, 145, 1650).
Возможность полного разорения и физической гибели выражалась как в официальных, так и в частных челобитьях с помощью словосочетания вконец (до конца) погибнуть (погинутъ), разориться и т. д.: Не вели, г., у нас... тое мельницу напрасно отпять... чтоб нам, ст., от того Завьялова ложно-ва челобитья и оглашенья в конец не погибнуть и... тягла не отбыть (АХБМ. Ч. I. № 55-1, 123, 1650).
В крестьянских челобитных употребляется устойчивое словосочетание ра(о)збрестись врознь (розно) ‘разойтись по одиночке, покинуть землю, перестать заниматься крестьянским трудом’: Не велите, государи, править по третьему рублю... чтоб нам, сиротам, врознь не розбрестися (ЧО. № 6, 67, 1673).
В формулу просьбы могли включаться обобщенные формулировки мотивов пожалования ( за кровь ‘за ранение’, за раны , за службишко ), добавочных мотивировок ( для ангела-хранителя, для своего многолетного здоровья, для твоего царского величества, ради великого чудотворца Христова Николы и т.п).
Как указывает С.К. Богоявленский, «отдельные традиционные формулы были социально ограничены: отбыть (встать) службы или дела – для служилых людей; отбыть (остатъ) тягла, податей, работишки – для посадских людей и государственных крестьян; отбыть (остатъ) пашни , изделья – для частно-владельческих крестьян» [1, с. 204].
Таким образом, одним из продуктивных способов выражения интенции просьбы является вербально-семантический. Для выражения просьбы чаще всего использовались перформативы и эмоцинально-оценочная лексика. В семантике языковых единиц, включенных в клише, содержится указание на прямые и косвенные речевые тактики прошения, актуализированное использованием эмпатических средств. Модусная часть формулы просьбы фиксирует четкую противопоставленность просителя и адресата, что проявляется в самоунижении первого и возвышении второго. Лексическое наполнение просьбы включает в себя элементы аргументации, эксплицируя наиболее важный довод – сохране- ние жизни и здоровья. Большое число вариантов формулы просьбы свидетельствует о значимости данного жанра в рамках культурнопрагматического пространства.
Список литературы Лексико-фразеологические средства выражения просьбы в челобитных XVII века
- Астахина, Л. Ю. Семантические и словообразовательные аспекты изучения тематической группы/Л. Ю. Астахина//Лексические группы в русском языке XI-XVII вв. -М.: АН СССР, 1991. -С. 34-52.
- Богоявленский, С. К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI-XVII веков/С. К. Богоявленский -М.: Знак: Яз. слав. культуры, 2006. -608 с.
- Виноградов, В. В. К истории лексики русского литературного языка/В. В. Виноградов//Избранные труды: Лексикология и лексикография. -М.: Наука, 1977. -С. 40-47.
- Качалкин, А. Н. Памятники местной деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии/А. Н. Качалкин//Вопросы языкознания. -1972. -№ 1. -С. 105-113.
- Майоров, А. П. Формуляр и лексическая содержательность явочных челобитных/А. П. Майоров//История русского языка и лингвистическое источниковедение. -М.: Наука, 1987. -С. 32-48.
- Судаков, Г. В. Критерии выделения и особенности организации лексических групп/Г. В. Судаков//Лексические группы в русском языке XI-XVII вв. -М.: АН СССР, 1991. -С. 23-34.