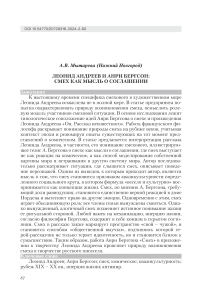Леонид Андреев и Анри Бергсон: смех как мысль о соглашении
Автор: Мытарева А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
К настоящему времени специфика смехового в художественном мире Леонида Андреева осмыслена не в полной мере. В статье предпринята попытка охарактеризовать природу возникновения смеха, осмыслить ролевую модель участников смеховой ситуации. В основе исследования лежит типологическое соположение идей Анри Бергсона о смехе и произведения Леонида Андреева «Он. Рассказ неизвестного». Работа французского философа раскрывает понимание природы смеха на рубеже веков, учитывая контекст эпохи и резюмируя опыты существующих на тот момент представлений о комическом. В статье предлагается интерпретация рассказа Леонида Андреева, в частности, его понимание смехового, иллюстрирующее тезис А. Бергсона о смехе как мысли о соглашении, где смех выступает не как реакция на комическое, а как способ моделирования собственной картины мира и встраивания в другую систему мира. Автор последовательно рассматривает ситуации, где слышится смех, описывает поведение персонажей. Одним из выводов, к которым приходит автор, является мысль о том, что смех становится признаком квазикультурности определенного социального круга, в котором формула «весело и культурно» воспринимается как концепция жизни. Смех, по мнению А. Бергсона, требующий доли равнодушия, становится единственно верной реакцией в доме Нордена и вытесняет право на другие эмоции. Одновременно с этим, смех играет объединяющую роль: все члены семьи вынуждены смеяться. Однако вынужденный, алогичный смех подменяет истинное понимание жизни ее ритуальной стороной. Любой намек на механизацию, инерцию жизни, согласно философии Бергсона, содержит в себе комизм в скрытом состоянии. Смех в рассказе также маркирует пространство «свой - чужой», и становится способом «общественной выучки», подчиняясь которой герой-рассказчик не только теряет идентичность, но и становится близок к сумасшествию. Таким образом, работа Анри Бергсона «Смех» в приложении к творчеству Леонида Андреева проясняет природу возникновения смеха в творчестве русского писателя.
Леонид андреев, анри бергсон, смех, комическое, квазикультурность, рубеж xix - xx вв., инерция жизни, антимир
Короткий адрес: https://sciup.org/149146242
IDR: 149146242 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-82
Текст научной статьи Леонид Андреев и Анри Бергсон: смех как мысль о соглашении
История осмысления смехового как категории насчитывает несколько веков. Сложность прояснения природы смеха объясняется его много-аспектностью, находящейся на стыке психологии, философии, эстетики. С начала XX в. мы наблюдаем разграничение понятий «смех» и «комическое», где первое характеризуется как физиологическая реакция на происходящее, средство коммуникации, а второе относится к категории эстетики. Разработке этого вопроса посвящены работы А. Бергсона, М.М. Бахти- на, Д.С. Лихачева, В.Я. Проппа, Р.Н. Юренева, С.С. Аверинцева, Л.В. Карасева. Так, Л.В. Карасев помимо устоявшейся традиции рассматривать оппозицию «смех – слезы», противопоставляет смеху понятие стыда [Карасев 1996, 72], что во многом помогает прояснить специфику смеха на рубеже XIX – XX вв. В свою очередь, В.В. Компанеец и К.А. Степаненко называют смех «эстетической доминантой картины мира, из которой устранен Бог» [Компанеец, Степаненко 2009, 157].
Творчество Леонида Андреева является одним из ярких примеров амбивалентности смеха: с одной стороны, смех дестабилизирует мир, становится маркером его неустойчивости, с другой – смех лежит в основе создания пространства «антимира», враждебного человеку. Структурообразующую и концептуальную функцию смехового начала отмечает также И.И. Московкина [Московкина 2005, 231]. Осмыслению смеха в творчестве Леонида Андреева посвящены работы М.А. Телятник, Л.А. Иезуито-вой, И.И. Московкиной, А.П. Руднева. Однако эти исследования в большей степени направлены на описание категории комического, характеристики специфики жанра фельетона и сказки в творчестве Леонида Андреева.
Роль смеха в художественном мире Леонида Андреева еще предстоит описать. Однако уже сейчас тезис о тотальном пессимизме писателя поставлен под сомнение. В своей работе мы предлагаем посмотреть на природу возникновения смеха на материале одного из рассказов Леонида Андреева через призму эссе Анри Бергсона «Смех».
В начале XX в. в журнале «Revue de Paris» была опубликована работа «Смех» французского философа Анри Бергсона. В 1900 г. эта работа издается на русском языке под названием «Смех в жизни и на сцене», в дальнейшем в 1913–1914 гг. в России выходит собрание сочинений в пяти томах в переводе И. Гольденберга и В. Флеровой, где сборник статей «Смех» публикуется в 5 томе вместе с «Введением в метафизику».
Эссе раскрывает понимание природы смеха на рубеже веков, учитывая контекст эпохи и резюмируя опыты существующих на тот момент представлений о комическом.
По мнению Анри Бергсона, поводом для смеха всегда является антропоморфность. Возникновение комической ситуации связывается с реакцией на автоматизм происходящего, где смех свидетельствует об обнаружении этого автоматизма. Как отмечает философ, смех при этом всегда направляется на одного человека, исключенного из круга остальных, и требует определенной доли отстраненности, «анестезии сердца» [Бергсон 1914, 98], поскольку обращается к «чистому разуму» [Бергсон 1914, 98]. Так, смех приобретает общественное значение, где причастность к кругу смеющихся хранит в себе «мысль о соглашении» [Бергсон 1914, 98] и в этом отношении близка к заговору. Первые рецензии на работу А. Бергсона выходят в 1900–1901 гг. [Блауберг 2003, 593]. В «Русской мысли» (1900) в статье «Le rire. Essai sur la signification de comique. Henri Bergson. Paris» представлены основные тезисы трактата А. Бергсона, автор статьи признает значимость работы французского философа, однако не соглашается с ним по ряду тезисов. Так, рецензент пишет о преувеличенном зна- чении «автоматичности» при возникновении смеха, оспаривает неумение животных смеяться и, наконец, подчеркивает необходимость временной симпатии для создания «комического настроения» [Русская мысль 1900, 422]. Рецензент журнала «Русское богатство» видит в смехе «средство воздействия общественной мысли на неподатливого члена общества» [Русское богатство 1901, 95] и находит интересным мысль о типическом характере изображения героев в комедии, что и составляет основу комического.
На данный момент нет прямого подтверждения того, что взгляды Анри Бергсона были восприняты и освоены Леонидом Андреевым. Однако мы знаем, что А. Бергсон в интервью одной американской газете в 1913 г. признается: «Россия достигла замечательных успехов в литературе. Она создала таких гениев, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Горький и Андреев. Но философия там еще не дала чего-либо значительного» [Бла-уберг 2003, 405]. Мы предполагаем, что сформулированное французским философом понимание природы смеха может быть мотивировано знанием русской литературы, в частности формирующейся литературы эпохи модернизма, для которой осмысление ситуации смеха становится одним из наиболее значимых аспектов развития мысли. Таким образом, нам видится возможным рассмотрение произведений Леонида Андреева в соположении с эссе А. Бергсона. В этом отношении работа Анри Бергсона может быть рассмотрена как один из философских ключей к пониманию смехо-вого в творчестве писателя.
В связи с этим мы предлагаем посмотреть на произведение Леонида Андреева «Он. Рассказ неизвестного», опубликованное в 1913 г., обратившись к системе представлений Анри Бергсона, касающейся природы возникновения смеха. Как нам видится, наблюдение, сделанное Анри Бергсоном в эссе, во многом может послужить ключом к пониманию природы смеха в творчестве Леонида Андреева: «Как бы ни был смех искренен, он всегда таит в себе мысль о соглашении, я сказал бы даже – почти о заговоре с другими смеющимися лицами, действительными или воображаемыми» [Бергсон 1914, 99]. Под соглашением здесь понимается принадлежность к определенному кругу людей, объединенных общими ценностями, правилами.
Так, попадая в мир семьи Нордена, вместе с героем (студентом-репетитором) мы оказываемся в пространстве, которое не только имеет четко очерченные границы: дом, сад, прибрежная линия, линия моря, – но и требует соблюдения особых «культурных норм». «Это будет так весело, так культурно!» [Андреев 2021, 1131] – слова главы семьи, отражающие требования, которым должна соответствовать жизнь дома, обладают определенной степенью формульности и заключают в себе концепцию жизни Норденов (в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» (1898) смех тоже становится формой презентации культурности в представлении определенного социального круга: «Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело»). В основе такого ритуального смеха лежит идея «веселого телесного избытка» [Тамарченко 2008, 238], акцент делается на внешнем выражении эмоций, а не на истинном переживании. Важно заметить, что все присутствующие в доме лишаются индивидуальных черт и обезличиваются. Они попадают в поле зрения Нордена лишь в момент смеха, когда хозяину дома нужно услышать реакцию в ответ на очередную шутку или анекдот. Действительно, гости и члены семьи исправно соблюдают негласно установленные правила: на обеде мы видим толстого молчаливого немца, «раскрывающего рот только для еды или для смеха», англичанку, хохочущую над анекдотами («так требовали, по-видимому, обычаи дома» [Андреев 2021, 1130]), даже тогда, когда хозяин дома забывал перевести свои анекдоты на английский язык, Мисс Молль, готовую при слове «Танцирен!» танцевать и смеяться. Даже внешность сына Нордена, Володи, условна: «Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие, светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке» [Андреев 2021, 1130], – что подчеркивает его готовность «предупредительно хохотать» [Андреев 2021, 1130], хотя сам мальчик «никогда не смеялся и даже не улыбался» [Андреев 2021, 1131]. Единственным человеком, который присутствует в доме, но остается вне поле нашего зрения, становится «невидимая» госпожа Норден, которая предпочитает не смеяться и не покидать стен своей комнаты.
Другой героиней, отличающейся от остальных жителей дома, оказывается младшая дочь Нордена. Значимым является эпизод плача «маленькой», которую студент обнаруживает в пустой комнате. Девочка стоит в углу и что-то быстро шепчет плачущим голосом, рядом с ней нет ни Мисс Молль, ни старшего брата. По словам героя, плач был «не в порядке дома». Маленькая – единственный персонаж, способный не только на искреннюю радость, но и на настоящие слезы. Однако мы видим, как она неосознанно начинает подчиняться правилам взрослого мира: девочка ругает себя за шалость и сама встает в угол. Мальчик Володя, уже усвоивший негласные законы дома, после того как ушибся, при виде взрослого быстро принимает вид почтительного ученика и на вопрос репетитора «Отчего же ты не плачешь?» отвечает так, как того хочет взрослый: «Я уже плакал» [Андреев 2021, 1131]. Для Володи проявление истинных эмоций мыслится как что-то небезопасное, поэтому, освоив модель поведения, принятую в семье, он научился вести себя, соответствуя ожиданиям взрослых.
Таким образом, мысль о соглашении связана, прежде всего, со способом жизни членов семьи Нордена. За кажущейся нормальностью происходящего, «внешней гармонией форм» [Бергсон 1914, 110] читатель вместе с главным героем обнаруживает уродство происходящего. Прежде всего, это уродство мы находим в попытках Нордена отрицать реальность и бороться с естественным ходом вещей: каждое утро рабочие Нордена железными граблями «сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей» [Андреев 2021, 1128] с садовых дорожек. Это усиливает противоестественный и алогичный ход жизни семейства. Обнажая неправильность, дисгармоничность форм, Леонид Андреев изображает не объективную реальность, а гримасу действительности, представляя ее как систему мира, которую создали для себя герои и на которую согласились. О таком типе изображения замкнутого локуса пишет Н.Д. Тамарченко: «Раскрытие кризисной природы определенного социума (происходит. – А.М.) с помощью принципиально чуждой ему точки зрения» [Тамарченко 2007, 12]. Смех в этом отношении играет конструирующую роль «микромира» [Тамарченко 2007, 12]. Смех не только очерчивает круг «согласных», но и лежит в основе законов совместной жизни. Внешние атрибуты веселья, «культурной» жизни: танцы, анекдоты, – могут объяснить возникновение смеха, однако принимая во внимание контекст, мы можем говорить о том, что здесь происходит подмена понятий: природа смеха здесь обусловлена не реакцией на комическое, не проявлением витальности, а бессилием героев перед способностью признать и пережить горе и, как следствие, отстраненностью и забвением.
Общество перестает быть обществом в его живом, естественном понимании. Как только появляется намек на инерцию, механизацию, мир приобретает черты маскарада. Происходит то, о чем пишет А. Бергсон: «… обрядовая сторона общественной жизни содержит в себе комизм в скрытом состоянии» [Бергсон 1914, 120], вытесняя при этом жизнь истинную. Смех становится ритуалом, поддерживающим представления о «культурной» нормальной жизни и лишающим жителей дома самостоятельности. Это подтверждает сцена танца: «И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. <…> Сама Мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича» [Андреев 2021, 1131]. Смех в повести, как и танец, создает ложное представление о веселье и сплоченности семейного круга, способствует восприятию картины мира как инверсированной.
Подтверждение этому мы находим в сцене бала, которую рассказчик сравнивает с ожившим и затанцевавшим платяным шкапом: «Я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные <...>» [Андреев 2021, 1143]. Таким мы видим мир Нордена глазами студента. Мир, все элементы которого должны искусственно поддерживать атмосферу веселья. Войти в этот круг можно только приняв правила игры, став носителем смеха. Так смех маркирует состояние «свой – чужой». Герой, от лица которого ведется повествование, в начале своего пребывания в доме держится отстраненно, выпадает из этого круга, тем самым размыкая его и создавая дополнительное напряжение: «Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал: “Почему вы не смеетесь?”». Хозяину дома удается «выжать смех» из студента: «<...> я начал хохотать как все, – помню до сих пор конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади <...>» [Андреев 2021, 1130]. Такое изображение смеющегося человека, теряющего контроль над собой, поддающегося неведомой силе, традиционно для творчества Леонида Андреева. Уже в ранних произведениях («Петька на даче», 1899; «Рассказ о Сергее Петровиче», 1900; «Смех», 1901) мы видим, как герой становится носителем смеха, теряя при этом свою идентичность.
Анри Бергсон одной из функций смеха называет общественно значимую роль: человек становится комичен, когда замыкается в себе, то есть выпадает из общественной жизни. В этом случае смех выступает средством «общественной выучки» [Бергсон 1914, 169], избавляет его от рассеянности и мечтательности и возвращает к жизни. Подобное мы встречаем в повести «Он». С одной стороны, смех очерчивает круг людей, с другой – смех в нем является не следствием радости жизни и не реакцией на комическое, а маской, способом поведения, позволяющим идентифицировать себя через принадлежность к определенной группе и занять безопасное место в системе мира. Соглашаясь на смех, герой-рассказчик чувствует, что теряет идентичность, начинает подчиняться желаниям Нордена и установленным в доме правилам: «Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело» [Андреев 2021, 1130]. В сознании героя смех является символом враждебного, противоестественного мира, законы которого не поддаются логике.
По мнению Анри Бергсона, смех как мысль о соглашении требует от смеющихся определенной доли равнодушия, нечувствительности. Рассказ Нордена о гибели дочери поражает героя своей нелогичностью: с одной стороны, Норден «безжалостно сдирает следы» [Андреев 2021, 1127] произошедшего и перекрашивает лодку, в которой утонула его дочь, в белый цвет, с другой – отмечает камнями место ее гибели. Еще более поражает неуместность интонаций, с которыми глава семьи делится с репетитором своей историей: «А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. <...> А зачем молодые люди уезжают далеко? – засмеялся Норден» [Андреев 2021, 1128]. Похожий смех мы слышим в эпизоде у окна, когда перед главным героем и Норденом появляется Он. Сам рассказчик отмечает, что «настойчивые просьбы быть веселым и <...> начать смеяться» [Андреев 2021, 1128] становятся способом побороть беспокойство. Так, с помощью смеха жители дома отстраняются от происходящего, освобождаются от «уз объективности» [Теория литературы 2004, 65]. Смех и внешнее веселье замещают память о произошедшем и накладывают запрет на эмоции другого характера. Одновременно с этим главный герой, будучи наблюдателем, человеком, которого лично не коснулась трагедия гибели девочки, оказывается наиболее чувствующим, вовлеченным лицом. Этим объясняется его неспособность реагировать на шутки и предаваться всеобщему веселью в первые дни его пребывания.
Смех – как единственная верная реакция в доме, маркер «культурности» – замещает другие эмоции, кроме страха, и приводит к постепенному помешательству и угасанию студента, лишая его не только воспоминаний, но и сил противостоять укладу дома: «<...> у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душою одинокою, не знавшей радости <...>, без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий» [Андреев 2021, 1139].
Ошибочно было бы заявлять, что герой всецело становится носителем смеха. Рассказчик способен испытывать подлинные эмоции. «Тихие и счастливые часы» наступают во время отъезда главы дома, когда «Норден с его смехом и анекдотами находился в городе» [Андреев 2021, 1140]. Кроме того, принимая участие в предновогодней «искусственно веселой суете», рассказчик отдает себе отчет в механистичности происходящего: смех, который он слышит, напоминает ему «треск раздираемых в отчаянии одежд» [Андреев 2021, 1141], никак не отражающий настоящее настроение членов семьи. Мысль о соглашении, способность к вынужденному смеху становятся причиной внутреннего разлада рассказчика: герой понимает алогичность и безумие происходящего, однако начинает сомневаться в собственной нормальности, так как понимает свою причастность к кругу смеющихся. Смех как мысль о соглашении стать частью определенного круга и, как следствие, отказ от собственной идентичности становится причиной угасания героя, остающейся за границами его понимания: «Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно» [Андреев 2021, 1149].
Представление о смехе как мысли о соглашении, по мнению Анри Бергсона, с одной стороны, требует от смеющихся определенной доли равнодушия, нечувствительности к объекту насмешки, с другой – разделения общей системы ценностей, а значит, тяготения к общности. При этом объект насмешки не принимает системы ценностей круга смеющихся, замыкается в самом себе и, как следствие, отчуждается им. Такова природа смеха в рассказе «Он. Рассказ неизвестного», где смех лежит в основе семейного уклада семьи Нордена и является маркером квазикультурности. С молчаливого согласия всех членов семьи смех накладывает запрет на выражение чувств иного характера. Сочетание несовместимых противоположностей: ложная веселость, гибель дочери и смерть жены Нордена – «свидетельствуют о состоянии катастрофы» [Тамарченко 2007, 63]. Атмосфера ложной беззаботности и веселья требует от ее участников должной степени равнодушия к произошедшей и разворачивающейся трагедии. Неуместный и противоестественный смех становится причиной болезненного состояния главного героя, который принимает, но не усваивает до конца правила общежития. Смех в рассказе не только маркирует пространство дома Нордена, но и очерчивает границы дозволенного, а также становится своеобразной стеной непонимания между всеми членами семьи.
Список литературы Леонид Андреев и Анри Бергсон: смех как мысль о соглашении
- Андреев Л.Н. Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. М.: Альфа-книга, 2021. 1243 с.
- Б.п. Le rire. Essai sur la signification du comique. Henri Berson. Paris, 1900 // Русская мысль. 1900. Книга XI. Ноябрь. С. 420-422.
- Б.п. Бергсон. смех в жизни и на сцене. Перевод с французского. СПБ. 1901 // Русское богатство. 1901. № 5. С. 94-95.
- Бергсон А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. СПб.: Издание М.И. Семенова, 1914. 206 с.
- Блауберг И.И. Анри Бергсон. М.: Прогресс - Традиция, 2003. 670 с.
- Карасев Л.В. Философия смеха. М.: РГГУ, 1996. 221 с.
- Компанеец В.В., Степаненко К.А. «Смеховые миры» Фридриха Ницше и Ве-лимира Хлебникова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2009. № 8. С. 157-161.
- Московкина И.И. Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира Леонида Андреева. Харьков: Харьковский национальный университет имени B.Н. Каразина, 2005. 287 с.
- Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. Проблемы поэтики, сюжета и жанра. М.: Intrada, 2007. 255 с.
- Тамарченко Н.Д. Смех // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. C. 237-238.
- Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. 512 с.