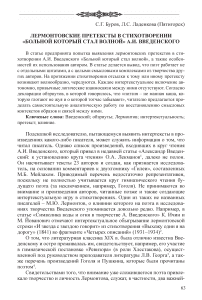Лермонтовские претексты в стихотворении «Больной который стал волной» А. И. Введенского
Автор: Буров Сергей Глебович, Ладенкова Людмила Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: История литературы
Статья в выпуске: 3 (30), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявления лермонтовских претекстов в стихотворении А.И. Введенского «Больной который стал волной», а также особенностей их использования автором. В статье делается вывод, что поэт работает не с отдельными цитатами, а с целыми смысловыми комплексами из творчества других авторов. На протяжении стихотворения отсылки к тому или иному претексту возникают волнообразно, чередуются. Каждое интертекстуальное включение автономно, привычные логические взаимосвязи между ними отсутствуют. Согласно декларации обэриутов, в которой говорилось, что «поэзия - не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают», читателю предлагается проделать самостоятельную аналитическую работу по восстановлению смысловых контекстов образов и связей между ними.
Введенский, обэриуты, лермонтов, интертекстуальность, претекст, влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/14914454
IDR: 14914454
Текст научной статьи Лермонтовские претексты в стихотворении «Больной который стал волной» А. И. Введенского
Подсказкой исследователю, пытающемуся выявить интертексты в произведениях какого-либо писателя, может служить информация о том, что читал писатель. Однако список произведений, входивших в круг чтения А.И. Введенского, который привел в недавней статье «Александр Введенский: к установлению круга чтения» О.А. Лекманов1, далеко не полон. Он насчитывает тексты 23 авторов и создан, как признается исследователь, на основании комментариев к двухтомнику «Гилеи», составленных М.Б. Мейлахом. Приводимый перечень недостаточно репрезентативен, поскольку не полностью учитывается круг гимназического чтения будущего поэта (за исключением, например, Гоголя). Не принимаются во внимание и произведения авторов, читанные позже и также создающие интертекстуальную игру в стихотворениях. Один из таких не названных писателей – М.Ю. Лермонтов, о влиянии которого на поэта в исследованиях творчества Введенского упоминается довольно редко. Например, в статье «Символика воды и огня в творчестве А. Введенского» К. Ичин и М. Йованович отмечают интертекстуальное обыгрывание лермонтовской строки «И звезда с звездою говорит» из стихотворения «Выхожу один я на дорогу» (1841) во фрагменте «Четырех описаний» (1931–1934)2.
О том, что литературная классика XIX в. была отлично известна Введенскому и остро проживалась им, свидетельствует, например, его участие в гимназической постановке «Ревизора» (в роли Хлестакова), осуществленной под руководством преподавателя литературы Л.В. Георга3, а также перечень произведений Гоголя и Пушкина, которые были прочитаны поэтом4.
Свидетельствами того, что внимание уже сложившегося поэта привлекало творчество и личность Лермонтова, служат, в частности, два важней- ших стихотворения, написанных в возрасте 25 и 36 лет, – соответственно «Больной который стал волной» (1929) и «Элегия» (1940). В данной статье мы рассмотрим первое стихотворение, лишь отметив, что второе представляет собой инверсионный аналог программной «Думы» (1838) Лермонтова, своего рода «переписывание» этого классического текста.
«Больной который стал волной», написанное 3 мая, было высоко оценено Д. Хармсом, которому Введенский читал его 27–29 мая. В Записной книжке 17 на листе 14 Хармс зафиксировал:
«Больной который был волной. <...>
Увы стоял плачевный стул.
На том стуле был аул.
Корова бывшая женою и т.д. – хорошо.
Увы стоял в зверинце стул».
Через несколько дней Хармс сделал еще одну запись (на листе 19 об.):
«У Введенского вся бессмыслица припауточная.
Больной, который был волной. – Мне очень нравится. Тут почти нет прибау-ток»5.
В стихотворении Введенского образ лирического героя многосоставен. Очевидно, это собирательный образ поэта, что задается уже первой строфой:
увы стоял плачевный стул на стуле том сидел аул на нем сидел большой больной сидел к живущему спиной6.
Первое, что в какой-то степени объясняет эти строки, – автобиографический отрывок «Время и Смерть» из «Серой тетради» Введенского (1932–1933):
«В тюрьме я видел сон. Маленький двор, площадка, взвод солдат, собираются кого-то вешать, кажется, негра. Я испытываю сильный страх, ужас и отчаяние. Я бежал. И когда я бежал по дороге, то понял, что убежать мне некуда. Потому что время бежит вместе со мной и стоит вместе с приговоренным. И если представить его пространство, то это как бы один стул, на который и он и я сядем одновременно. Я потом встану и дальше пойду, а он нет. Но мы все-таки сидели на одном стуле»7.
Упоминание негра и его судьбы вызывает ассоциации с каким-либо эпизодом гражданской войны в США. В России же XIX в. параллель- 64
ным этой войне событием было завоевание Кавказа, сопровождавшееся не меньшими жестокостями. Пребывание в тюрьме может отсылать к историям заключения под стражу Лермонтова после написания «Смерти поэта» (1837) и после дуэли с Барантом (1840) в ожидании развязок. В обоих случаях Николай I принял чреватые для поэта смертью решения – распорядился перевести Лермонтова в действующую армию на Кавказ: в первом – прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, во втором – в том же чине поручика в Тенгинский пехотный полк8. Сам поэт, очевидно, понимал, какими будут исходы этих дел. Размышления Лермонтова о том, что его ждет на Кавказе, а ждала его как раз война, в ходе которой истреблялись и целые аулы, не кажутся такими уж невероятными. Таким образом, «приговоренными» оказываются и сам сидящий в заключении (на стуле?) поэт, и собирательный аул. То, почему стул «плачевный», может объясняться как отношением Введенского к судьбе Лермонтова, так и Лермонтова (в возможном представлении Введенского) – к результатам войны с «аулом».
Обращает на себя внимание и тот факт, что Введенский использовал тот же 4-стопный ямб, что и Лермонтов в поэме «Мцыри»:
И вспомнил я отцовский дом, Ущелье наше и кругом В тени рассыпанный аул; Мне слышался вечерний гул Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов9.
С этим произведением текст Введенского сближает и основная тема – болезни и ожидания близкой смерти, и некоторые мотивы, например, аула. К «Мцыри» отсылает и название стихотворения, восходящее к отрывку из 23 части поэмы, в которой герой описывает свое состояние после схватки с «могучим барсом»:
Я умирал. Меня томил Предсмертный бред. Казалось мне, Что я лежу на влажном дне Глубокой речки – и была Кругом таинственная мгла. И, жажду вечную поя, Как лед холодная струя, Журча, вливалася мне в грудь... И я боялся лишь заснуть, – Так было сладко, любо мне... А надо мною в вышине Волна теснилася к волне

И солнце сквозь хрусталь волны Сияло сладостней луны...10.
Интертекстуально «припоминая» «Мцыри», Введенский фактически отождествляет своего героя с волной – вслед за лермонтовским. Образ или «иероглиф» (по выражению Л.С. Липавского11) воды в творчестве Введенского неразрывно связан со смертью. Мотив воды, по мнению М.Б. Мей-лаха, архетипически сополагается с мотивом времени12.
То, что больной «сидел к живущему спиной», свидетельствует о его самоуглублении, изоляции и отрешенности. Подобно героям «Госпожи Ленѝн» (1908, 1913) В.В. Хлебникова больной Введенского «замкнут в ему лишь отведенной иллюзии, во мнимости, существование которой и самому этому персонажу сомнительно»13. Если трактовать «к живущему» как «живущее», то перед нами – отвернутость больного от мира, подобная изоляции госпожи Ленѝн, которая смотрит, по-видимому, на сад вокруг психиатрической лечебницы, тогда как действие согласно ремарке «протекает перед голой стеной»14. Следовательно, сад и приходящий доктор Лоос появляются лишь в расщепленном сознании героини. Если же интерпретировать «к живущему» как «живущий», то речь идет об отвернуто-сти от своего внутреннего двойника, и мы можем допустить, что именно так – как внутренне раздвоенную личность – поэт изображает здесь и себя, и Лермонтова как собственного двойника. Состояние больного в стихотворении Введенского корреспондирует с очевидной шизофренией (от др.-греч. σχίζω – раскалываю и φρήν – ум, рассудок) госпожи Ленѝн, которая насильственный перевод в другую палату интерпретирует как апокалиптический конец: «Голос Сознания. Все погибло. Мировое зло. <...> Все умерло. Все умирает»15. Герой Введенского болен ожиданием смерти, причиной которого может быть и проявление реального физического страдания, что отсылает нас к более позднему стихотворению «Потец» (1936–1937), и такое же, как у госпожи Ленѝн, символико-эсхатологическое восприятие мира при душевной болезни и нормальном физическом состоянии.
Далее Введенский, ассоциирующий боевого офицера Лермонтова с участвовавшими в сражении русскими солдатами из его произведений, в интертекстуальном плане подключает «Бородино»:
сидит больной скребет усы желает соли колбасы желает щеток и ковров он кисел хмур и нездоров16.
Ср. у Лермонтова:
Но тих был наш бивак открытый: Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито, Кусая длинный ус17.
Общим между «большим», т.е. в медицинском смысле тяжелым, больным и солдатом накануне битвы является то, что оба ожидают смерти. Смерть – одна из основных («время, Бог и смерть») тем в творчестве Введенского. Поэт «транслирует» Лермонтова, переводя внимание с действия («кто кивер чистил весь избитый») на недостающий предмет, посредством которого оно осуществляется («желает щеток и ковров») и состояние героя – голод солдата («желает соли колбасы»). Ворчание воинов «Бородина» в третьей, пятой и шестой строфах превращается в «кисел, хмур и нездоров». Такой же тип русского солдата, как в «Бородино», мы видим в «Герое нашего времени». Штабс-капитан Максим Максимыч долго служил на Кавказе и привык к ожиданию смерти. Сходство с ворчащими стариками «Бородина» дополняют «преждевременно поседевшие усы»18.
Далее прихотливая «волнообразная» ассоциативность Введенского переключает читателя на другого позднего романтика, поэзия которого также наполнена ожиданием смерти, – А.А. Блока. Строки:
он видит здание шумит и в нем собрание трещит и в нем создание на кафедре как бы на паперти стоит и руки тщетные трясет весьма предметное растет и все смешливо озираясь лепечут это мира аист19
отсылают к части 1 поэмы «Двенадцать» (1918):
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате – плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!» Старушка убивается – плачет,
Никак не поймет, что значит20.
Под «созданием на кафедре», возможно, имеется в виду по-солдатски усатый современник Блока П.Н. Милюков – один из основателей и председатель ЦК Конституционно-демократической партии России, член III и IV Государственных Дум. После начала Первой мировой войны он был сторонником «войны до победного конца». Выступая 1 ноября 1916 г. с трибуны IV Государственной думы, Милюков в своей знаменитой обличительной речи обвинил императрицу Александру Федоровну, премьер-министра России Бориса Штюрмера и других людей из «придворной пар-
тии» в том, что они готовят сепаратный мир с Германией. Рефреном в речи звучали слова: «Что это, глупость или измена?». После отречения Николая II в результате Февральской революции Милюков был членом Временного комитета Государственной Думы и выступал за сохранение в стране конституционной монархии. Милюков резко негативно отнесся к приходу к власти большевиков, был последовательным сторонником вооруженной борьбы с ними. Он был избран в Учредительное собрание (созванное 5 января и распущенное 6 января 1918 г.), но в его деятельности не участвовал, т.к. уехал на Дон, присоединившись к Алексеевской организации, по прибытии на Дон генералов Корнилова, Деникина, Маркова преобразованной в Добровольческую армию. В январе 1918 г. Милюков входил в состав Донского гражданского совета. Затем переехал в Киев, где в мае 1918 г. начал переговоры с германским командованием, которое рассматривал в качестве потенциального союзника в борьбе с большевиками. В эмиграции Милюков выступил с «новой тактикой» в отношении советской России, направленной на внутреннее преодоление большевизма. Добровольческая армия воевала с большевиками на Дону, Кубани и на Северном Кавказе.
В стихотворении Введенского Милюков (если подразумевается именно он) презрительно назван «созданием», трибуна Государственной Думы (замененной даже не Учредительным, а простым «собранием») – «кафедрой», которая затем становится «папертью» – ср. с миссией Милюкова на Дон, где он старался обеспечить Добровольческой армии поддержку европейских правительств, а потом в Киев – на «паперть» с ожиданием милостыни от немцев. «Кафедра» уравнивается с «папертью» и в силу ассоциирования Введенским блоковской не понимающей идеи Учредительного собрания, но «прагматически» рассуждающей трясущейся старушки, с Милюковым – борцом за идею, прагматически отправившимся не выступать в Учредительном собрании, но поднимать на борьбу с большевиками Дон, а с другой стороны – отправившимся клянчить этот подъем на борьбу. Если наша догадка верна, то называние подразумеваемого Милюкова «мира аистом» рисует презрительное и смешанное с неверием в его успех и боязнью большевиков отношение к его военным выступлениям и мерам – отсюда: «смешливо озираясь». Безуспешность дела Милюкова отмечается заключающими посвященный ему пассаж словами: «увы он был большой больной // мясной и кожаный но не стальной»21, в которых соблазнительно было бы усмотреть противопоставление ему такого же «милитариста» Сталина.
«Волнообразность» перехода ассоциаций с Лермонтова и «Бородина» на Блока и «Двенадцать», а затем (по тексту) возвращение к аллюзиям на поэзию XIX в., в частности, на пушкинские и лермонтовские «классические» дубравы (в «Руслане и Людмиле» – «Простите, верные дубравы!», «Дубравы, где в тиши свободы» – в «Мцыри» и др.) и вновь на «Бородино» соответствует представлениям о волнообразной природе времени и мира, которые развивали в своих разговорах «чинари» и их друзья (см. «Разговоры» Л.С. Липавского), признавая В. Хлебникова «реформатором челове-
чества»: «Он первый почувствовал то, что лучше всего назвать волновым строением мира. <...> Он первый ощутил время как струну, несущую ритм колебаний»22.
Аллюзии на дубравы как знак романтической поэзии содержатся в словах врача:
но врач ему сказал граждане я думаю что вы не правы и ваше злое ожиданье плевок в зеленые дубравы23.
Образ врача возникает в тексте и далее:
так говорил больному врач держа ручные кисти над водой во фраке черном будто грач не в позументах – с бородой24.
Ср. с описанием внешности доктора Вернера из «Героя нашего времени»: «Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем»25.
Образ доктора в романе Лермонтова недвусмысленно отсылает к гетевскому Мефистофелю. Вернер является посредником между миром живых и миром мертвых – функция, аналогичная мефистофелевской. Врач в стихотворении Введенского играет ту же роль: он обращается к умирающему больному бытовым и казенно-обезличивающим словом «граждане», говорит «ты знай что ты покойник // и все равно что рукомойник»26. Трудно представить врача, который произносил бы такие слова в адрес умирающего человека, разве что это тюремный врач. У Введенского пациент, находящийся в заключении, наделяется статусом неодушевленного предмета, мертвой вещи («рукомойник»). Характерно, что по отношению к заключенным и обвиняемым в советское время также использовали обращение «гражданин», а не «товарищ».
Однако между стихотворением Введенского и романом Лермонтова включен в работу все тот же интертекстуальный «посредник» – «Госпожа Ленѝн» В. Хлебникова. В этой короткой пьесе появляется доктор Лоос, о котором Го л о с З р е н ия госпожи Ленѝн сообщает: «Он весь в черном. Шляпа низко надвинута над голубыми смеющимися глазами. Сегодня, как и всегда, его рыжие усы подняты к глазам, а лицо красно и самоуверенно. Он улыбается, точно губы его что-то говорят»27. «Лоос: голланд. Loos – хитрый, лукавый; ложный; нем. Los – судьба, участь»28. Госпожа Ленѝн воспринимает доктора Лооса как предвестника «мирового зла». Введенский очевидно ассоциирует такую интерпретацию с отношением Печорина к Вернеру (= «Мефистофелю» в черном), которому тот говорит накануне дуэли:
«Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, – и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?»29.
Эта цитата представляется своего рода связующим звеном между больным Введенского и героями нескольких произведений Лермонтова. Ожидание смерти отождествляет этого больного, длительно страдающего от тяжелого недуга, с юношей Мцыри, в смертельной схватке боровшегося с «могучим барсом», а также с солдатом из «Бородина», готовящимся к битве, и с Печориным, которому предстоит драться на дуэли, и с заключенным.
После закавыченного в тексте «стихотворения» врача и ответной речи больного следует смена стихотворного размера на 3-кратный амфибрахий, которым отмечается изображение еще одного вида смерти, также связанного с участием врача. «Тихая сабля» и «казенная шашка» напоминают как о докторе Вернере, так и о персонаже главы «Фаталист» Вуличе, который погиб от шашки пьяного казака, перед этим зарубившего свинью:
но доктор как тихая сабля скрутился в углу как доска и только казенная шашка спокойно сказала: тоска мне слышать врачебные речи воды постепенный язык пять лет продолжается вечер болит бессловесный кадык и ухо сверлит понемногу и нос начинает болеть в ноге наблюдаю миногу в затылке колючки и плеть ну прямо иголки иголки клещи муравьеды и пчелки30.
Пропуская большой пассаж, условно говоря о «животных» (читай аллегорически: обывателях) и переменах, которые произошли с ними в период времени от царской России до советской (о теме насекомых у Введенского см. наблюдения М.Б. Мейлаха31), обратим внимание на новое обращение Введенского к теме войны, пропущенной вновь сквозь «Бородино». Подытоживая этот пассаж словами «и все вообще переменилось // о Бог смени же гнев на милость»32, Введенский переходит, скорее всего, к оценке Гражданской войны. Для него здесь актуализируются сразу несколько знаковых текстов Лермонтова: «Бородино» (1837), «Казачья колыбельная 70
песня» (1838), «Я к вам пишу случайно, – право» (1840), юношеская драма
«Испанцы» (1830):
так на войне рубила шашка солдат и рыжих и седых как поразительная сабля колола толстых и худых сбирались в кучу командиры шипели вот она резня текли желудочные жиры всю зелень быстро упраздня ну хорошо ревет чеченец ну ладно плакает младенец а там хихикает испанец и чирикает воробей ты не робей33.
В использованной Введенским строфе из «Бородина» – высокий патриотический пафос:
Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?»34.
Введенский переводит ворчание лермонтовских стариков по поводу отсрочиваемой битвы в шипение командиров об идущей резне, в которой и на поле Бородина, и при Валерике потоки крови быстро «упраздняют» всю «зелень». Героико-патриотический пафос уступает место отвращающему животному физиологизму, которого нет и в кровавых описаниях битвы в двух батальных лермонтовских стихотворениях. Перечисляемые вслед за этим потенциально «смертельные» образы из «Казачьей колыбельной песни», «Испанцев» нивелируются обращением к больному врача: «ты знай что ты покойник // и все равно что рукомойник»35.
Заключительная часть стихотворения отсылает к его началу и, тем самым, замыкает текст на себе, раскрывает его как историю человека, ожидающего неминуемой близкой смерти, пытающегося взглянуть на нее из посмертного состояния.
«Больной который стал волной» – не единственный текст, в котором Введенский обращается к разным видам смерти, проживаемым из посмертного состояния героя. Показательны в этом отношении, к примеру, его произведения «Четыре описания» (1931–1934), «Кругом возможно
Бог» (1931). Оба текста – шаги поэта к пониманию проблемы времени и его восприятия из посмертного-существования-при-жизни, как это изложено, в частности, в разделе «Глаголы» из «Серой тетради», где Введенский писал: «Отмечу, что последние час или два перед смертью могут быть действительно названы часом. Это есть что-то целое, что-то остановившееся, это как бы пространство, мир, комната или сад, освободившиеся от времени. Их можно пощупать. <...> События не совпадают с временем. Время съело события. От них не осталось косточек»36. Размышления о многообразных способах смерти, предпринимаемые из посмертного существования, осмысляемого еще при жизни, эсхатологичность мира, балансирование человека на грани жизни и смерти и ощущение себя сразу в двух этих мирах – сближают Введенского с Лермонтовым. Одной из ярчайших попыток взгляда на себя из посмертного существования при жизни у Лермонтова является стихотворение «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана») (1841).
На основании вышесказанного можно заключить, что интертекстуальность у Введенского обусловлена его ассоциативным мышлением и обыгрыванием не отдельных чужих строк или реакцией на них, а смысловых комплексов из творчества предшественников и современников. Каждое такое интертекстуальное включение автономно, между ними отсутствуют привычные логические взаимосвязи. Продуцирующим их центром является сознание автора (= героя). Семантические основы языка, организующие каждый из смысловых пластов текста, остаются лишь в соответствующем пласте, перед читателем же автор их не высвечивает, отсюда возникает ощущение алогизма и абсурдности происходящего. И чтобы ощутить связность разрозненных деталей и текста в целом, читатель должен проделать аналитическую работу по восстановлению смысловых контекстов каждой реалии стихотворения и гипотетических реакций Введенского на эти контексты, которые, к тому же, могут находиться в одном ассоциативном поле его сознания.
-
1 Поэт Александр Введенский: Сб. материалов конференции «Александр Введенский в контексте мирового авангарда», проходившей 23–25 сентября 2004 года на филологическом факультете Белградского университета. М., 2006. С. 363–368.
Poet Aleksandr Vvedenskiy: Sb. materialov konferentsii «Aleksandr Vvedenskiy v kontekste mirovogo avangarda», prokhodivshey 23–25 sentyabrya 2004 goda na filologicheskom fakul’tete Belgradskogo universiteta. Moscow, 2006. P. 363–368.
-
2 Там же. С. 67–106.
Ibid. P. 67–106.
-
3 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. М., 1993. Т. I. С. 10–11.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Moscow, 1993. Vol. I. P. 10–11.
-
4 Поэт Александр Введенский. С. 365, 367.
Poet Aleksandr Vvedenskiy. P. 365, 367.
-
5 Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 6 т. Записные книжки. Дневник: В 2 кн. СПб., 2002. Т. I. С. 294, 297.
Kharms D. Polnoe sobranie sochineniy: In 6 volumes. Zapisnye knizhki. Dnevnik: In 2 books. Saint-Petersburg, 2002. Vol. I. P. 294, 297.
-
6 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 77.
-
7 Там же. Т. II. С. 79.
Ibid. Vol. II. P. 79.
-
8 Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М., 2003. С. 232, 362.
Zakharov V.A. Letopis’ zhizni i tvorchestva M.Yu. Lermontova. Moscow, 2003. P. 232, 362.
-
9 Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. II. С. 474.
Lermontov M.Yu. Polnoe sobranie stikhotvoreniy: In 2 volumes. Leningrad, 1989. Vol. II. P. 474.
-
10 Там же. Т. II. С. 486.
Ibid. Vol. II. P. 486.
-
11 Введенский А.И. Все. М., 2011. С. 353.
Vvedenskiy A.I. Vse. Moscow, 2011. P. 353.
-
12 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 251.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 251.
-
13 Иванов Вяч. Вс. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998). М., 2000. С. 275–276.
Ivanov Vyach. Vs. Zaum’ i teatr absurda u Khlebnikova i oberiutov v svete sovremennoy lingvisticheskoy teorii // Mir Velimira Khlebnikova: Stat’i. Issledovaniya (1911–1998). Moscow, 2000. P. 275–276.
-
14 Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 2013–2014. Т. IV. С. 180.
Khlebnikov V. Sobranie sochineniy: In 6 volumes. Moscow, 2013–2014. Vol. IV. P. 180.
-
15 Ibid. Vol. IV. P. 183.
-
16 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 77.
-
20 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960–1963. Т. III. С. 347.
Blok A. Sobranie sochineniy: In 8 volumes. Moscow; Leningrad, 1960–1963.
Vol. III. P. 347.
-
21 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 77.
-
22 Введенский А.И. Все. С. 594.
Vvedenskiy A.I. Vse. P. 594.
-
23 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 78.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 78.
-
24 Там же. Т. I. С. 79.
Ibid. Vol. I. P. 79.
-
25 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. С. 243.
Lermontov M.Yu. Sobranie sochineniy: In 4 volumes. Vol. IV. P. 243.
-
26 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 79.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 79.
-
27 Хлебников В. Указ. соч. Т. IV. С. 181.
Khlebnikov V. Op. cit. Vol. IV. P. 181.
-
28 Там же. Т. IV. С. 374.
Ibid. Vol. IV. P. 374.
-
29 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. С. 291.
Lermontov M.Yu. Sobranie sochineniy: In 4 volumes. Vol. IV. P. 291.
-
30 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 78.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 78.
-
31 Там же. Т. I. С. 231–232.
Ibid. Vol. I. P. 231–232.
-
32 Там же. Т. I. С. 79.
Ibib. Vol. I. P. 79.
-
33 Там же. Т. I. С. 79.
Ibib. Vol. I. P. 79.
-
34 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. II. С. 9.
Lermontov M.Yu. Sobranie sochineniy: In 4 volumes. Vol. II. P. 9.
-
35 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 79.
Vvedenskiy A.I. Polnoe sobranie proizvedeniy: In 2 volumes. Vol. I. P. 79.
-
36 Там же. Т. II. С. 81.
Ibid. Vol. II. P. 81.
Список литературы Лермонтовские претексты в стихотворении «Больной который стал волной» А. И. Введенского
- Поэт Александр Введенский: Сб. материалов конференции «Александр Введенский в контексте мирового авангарда», проходившей 23-25 сентября 2004 года на филологическом факультете Белградского университета. М., 2006. С. 363-368
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. М., 1993. Т. I. С. 10-11
- Поэт Александр Введенский. С. 365, 367
- Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 6 т. Записные книжки. Дневник: В 2 кн. СПб., 2002. Т. I. С. 294, 297
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77
- Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М., 2003. С. 232, 362
- Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. II. С. 474
- Введенский А.И. Все. М., 2011. С. 353
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 251
- Иванов Вяч. Вс. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории//Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911-1998). М., 2000. С. 275-276
- Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 2013-2014. Т. IV. С. 180
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77
- Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. II. С. 12
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Л., 1981. Т. IV. С. 185
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77
- Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960-1963. Т. III. С. 347
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Милюков,_Павел_Николаевич
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 77
- Введенский А.И. Все. С. 594
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 78
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. С. 243
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 79
- Хлебников В. Указ. соч. Т. IV. С. 181
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. С. 291
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 78
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. II. С. 9
- Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. I. С. 79