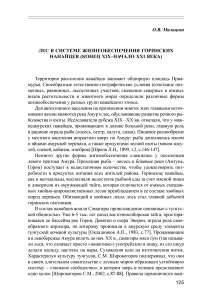Лес в системе жизнеобеспечения горинских нанайцев (конец ХIХ-начало ХХI века)
Автор: Мальцева О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521267
IDR: 14521267
Текст статьи Лес в системе жизнеобеспечения горинских нанайцев (конец ХIХ-начало ХХI века)
Территория расселения нанайцев занимает обширную площадь Приамурья. Своеобразные естественно-географические условия (сочетание низменных, равнинных, лесостепных участков; смешение северных и южных видов растительности и животного мира) определили различные формы жизнеобеспечения у разных групп нанайcкого этноса.
Для автохтонного населения на протяжении многих эпох главными источниками жизни являются река Амур и лес, обусловившие развитие речного рыболовства и охоты. Исследователи рубежа XIX –ХХ вв. отмечали, что у нижнеамурских нанайцев, проживающих в долине большой реки, главную роль в рационе играла рыба (лосось, осетр, калуга, сазан). Пищевое разнообразие у местного населения возрастало вверх по Амуру: рыба дополнялась мясом и яйцами амурской черепахи, а также продуктами лесной охоты (мясом косулей, оленей, кабанов, изюбров) [Шренк Л.И., 1899, т.2, с.146-147].
Немного другие формы жизнеобеспечения сложились у поселенцев левого притока Амура. Проходная рыба – лосось в боковые реки (Амгунь, Горин) поступает в недостаточном количестве, чтобы удовлетворить потребности в продуктах питания всех жителей района. Горинские нанайцы, как и негидальцы, восполняли недостаток рыбной еды за счет мясной пищи и дикоросов из окружающей тайги, которая отличается от южных смешанных хвойно-широколиственных лесов преобладанием в ее составе хвойных пород деревьев. Обитающий в хвойных лесах лось стал главной добычей горинских охотников.
В состав нанайцев вошли Самагиры происхождение связанные с тунгуской общностью. Уже 6-5 тыс. лет назад восточносибирская тайга, простирающаяся до бассейна рек Горин, Девятки и озера Эворон, играла роль своеобразного коридора, по которому проникали в амурскую среду элементы тунгуской кочевой культуры [Окладников А.П., 1983, с.77]. Проживающие в в левобережье Амура вплоть до нач. ХХ в., самагиры мясо бую (так называли лося, что означает просто «животное») употребляли в пищу, из его шкур делали одежду, настилы на нары. Сухожилия шли на изготовления ниток. Характеризуя культуру тунгусов, С.М. Широкогоров подчеркивал, что они в своем длительном сожительстве с лесным миром образовали устойчивую систему – «таежное сообщество», в котором зверь и человек представляют одно целое [Широкогоров С.М., 2002, с.87-88]. Правила гармоничного вжи- вания в лесной ландшафт они передали и другим этническим группам через контакты. Посредниками в этом были и жители долин р.р. Горина, Девятки, оз. Эворон.
Слабая заселенность лесных просторов сформировала у горинской группы представлений о тайге как неограниченной большой промысловой территории [Козьминский И.И., 1929, с.26]. Особенность нижнеамурского ландшафта – заболоченность, непроходимые заросли кустарников, делали возможным освоение лесных массивов только зимой. Элементами промысловой культуры были зимние лыжи, легкие охотничьи нарты и шалаш ( аонга ), как временное укрытие от непогоды.
Для горинских охотников необходимость проходить большие расстояния способствовала развитию ориентировочных способностей, в которых знания о лесе стали главной составляющей. В лексике горинских и амурских нанайцев слова, объединенные понятием «лес», отражают детали и признаки местности. Понятие «лес»- дуэнтэ, пурэси имеет два оттенка «таежная возвышенность» и « лесистая часть, особенности леса».
Подпонятие «таежная возвышенность» выражается следующими словами: рёлка, небольшая возвышенность с островками леса, кустарником – гаонян ; рёлка, небольшая возвышенность в низине – сиргэ .
«Лесистая часть» - дуэнтэ, пурэн имеет следующие характеристики: небольшой островок леса посреди болота, где растут ягоды, багульник - дэту (у горинских нанайцев слово дэту выражает и довольно обширную заболоченную местность); чаща, роща, валежник - сио [Нанайско-русский словарь, 1980].
Состав леса отражен в хозяйственной деятельности. Так в разделении труда учитывались ярусы лесного ландшафта. Верхний ярус растительности, состоящий из древесных пород (сосны, кедра, древесина березы, дуба и т.д.), считался сырьевой базой «мужского труда». Нижний ярус, состоящий из трав, часто эксплуатировался женщинами при занятии собирательством. Универсальную роль в хозяйстве играла кустарниковая растительность низменной части – ива, молодые побеги ивы (тальник). Ветки тальника и ивы использовались в строительстве фанз мужчинами и в изготовлении плетеных тарелок ( соро )- женщинами.
Еще в начале ХХ в. исследователи приамурских народностей, отмечали, что при обилии деревьев вокруг гольды (нанайцы) никогда не применяют их в качестве строительного материала [Лопатин И.А., 1922, с.83-86]. На постройку жилищ шли плавники, кустарниковая растительность, сухая трава. Деревья, как и лес, имели священный статус. Из кедра, сосны и менее сакральных – яблони, березы мужчины-шаманы изготавливали ритуальные предметы, предварительно попросив прощение у дерева. Даже при выделке лодок проводился ритуал извинения.
Дерево, являющееся вместилищем души леса, исполняло центральную роль в промысловом обряде нанайцев. Добравшись до прошлогоднего зимовья (аонга), охотник бил земной поклон дереву, растущему рядом. По сведе- ниям И.И. Козьминского у горинских нанайцев священное дерево tutga считалось воплощением родового дерева. Оно имеется в каждом селении, при чем число их может колебаться в зависимости от числа родов, населяющих данное стойбище, т.к. это дерево является чисто родовой святыней [Козьмин-ский И.И., 1929, с.45-46].
Запреты налагались на обрубание или обрезание веток живых деревьев, на заготовки зарубок на стволах и т.п. В пень срубленного для хозяйственных нужд дерева обязательно втыкали живую ветку, символизировавшую душу дерева. Этим самым, предполагалось, что дереву сохранялась жизнь [Бельды Н.А., 2003, с.48].
Лесное пространство уподоблялось священной зоне. Его покровителем и воплощением был дух таежного медведя – На-Дуэнтэни (буквально «земля»- средний мир – «тайга»; « человек тайги»). Владениями «таежного медведя» считаются – равнина, «средний мир», «тайга». Братом- близнецом На-Дуэнтэни является Водный медведь ( Муэ – Дуэнтэни ), который покровительствует водной стихии. Его владения – низины, поймы. Что характерно, горинские и амурские нанайцы на стихию воды перенесли понятие, связанное с лесом – «дуэнтэ».
В начале ХХ в. у горинских нанайцев в традиционных воззрениях, связанных с лесом, и в промысловой культуре в целом наметились тенденции угасания. Введение планирования в охотничью отрасль было нацелено на увеличение добычи, что вскоре привело к значительному сокращению ресурсов на охотничьих территориях. Приведенный И.И. Козьминским в качестве примера маршрут горинского охотника Ф.А. Самагира, меняющийся из года в год, показывает сложности, возникшие в занятии охотой, по причине участившихся миграций зверей в отдаленные районы [Козьминский И.И., 1929, с. 27 – 28]. Ту же самую ситуацию на примере амурских нанайцев описывает И.А. Лопатин [Лопатин И.А., 1922, с.73-74].
В 1930-е гг. с началом коллективизации на Дальнем Востоке возросла роль Нижнего Приамурья в деле промышленного развития и укрепления обороноспособности страны. Разработка залежей полезных ископаемых, строительство индустриальных объектов – все это приводило к выкорчевке огромных площадей леса. На первых лесных просеках работали не только бригады добровольцев и политзаключенных, но и представители из местных народностей. Принципы нетронутости тайги были нарушены.
В результате опроса, проводимого в с. Кондон в 1998 г., выяснилось, что две жительницы – Самар К.К. (г.р. 1915) и Самар И.К. (г.р. 1927) с 16 лет работали на лесоповале. Начало их трудовой деятельности пришлось на период строительства колхозов. В своих интервью информаторы не смогли дать оценку тому времени и роду своих занятий. Повал деревьев стал обычным занятием, за выполнение которого администрация расплачивалась едой.
Плановое уничтожение деревьев преобразовало облик окружающего пространства – участки редколесья теряли статус охотничьих территорий. С 1970-х гг. занятие охотой стало непрестижным среди горинских нанайцев.
Но в 1960-70-гг. среди местного населения сохранялось отношение к лесу как священной территории. Старожил из с. Кондон, писатель В.Ф. Зуев отмечает, что жители села взамен потерянных деревьев делали искусственные насаждения [Зуев В.Ф., 1990, с.18]. Священные места около с. Ямихты, с. Сарголь (рода Наймука), территории захоронений были окультурены посадками дикой яблони, кипы, черемухи.
На самой Кондонской сопке (гора Хурэн , Кайласу ), покрытой кедрачом, в свое время жители с. Кондон воспротивились проведению геологических работ, т.к. в их понимании этот участок, покрытый лесом, должен оставаться нетронутым. В этот же период из числа кондонских жителей был подготовлен отряд пожарников лесоохраны, проходивший специальную стажировку парашютистов в Комсомольске-на-Амуре [Чаадаева А., 1979].
Во второй половине ХХ в. и начале ХХI в. деструктивные правила природопользования, лесозаготовки, систематичные лесные пожары создали угрозу потери жизнеспособности горинской территории. Наблюдаемое жителями села Кондон похолодание климата в их местности и обмеление реки Девятки (потеря ее навигационной функции) также стало следствием массовой вырубки тайги. Экономические сложности не дают возможности воссоздания лесного комплекса. В настоящее время на этом участке нижнеамурской территории отмечается потеря функции леса как среды обитания.
Проблема сохранения лесов в горинском районе – это масштабная экологическая проблема, затронувшая близлежащие и отдаленные сельские и городские районы. Решение ее предполагает разработку моделей развития для районов традиционного природопользования и промышленного освоения с учетом многовекового опыта лесопользования местного коренного населения.