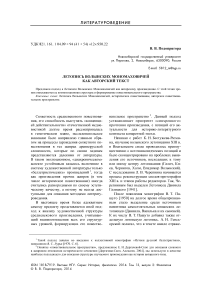Летопись Волынских Мономаховичей как авторский текст
Автор: Подопригора Василий Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Предложен подход к Летописи Волынских Мономаховичей как авторскому произведению. С этой точки зрения описываются ее композиционная структура и формирование повествовательного пространства.
Летопись волынских мономаховичей, историческое повествование, авторское повествовательное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147219005
IDR: 147219005 | УДК: 821.
Текст научной статьи Летопись Волынских Мономаховичей как авторский текст
Сюжетность средневекового повествования, его способность выступать «концепцией действительности» отечественной медиевистикой долгое время рассматривалась в генетическом плане, исследовательское внимание было направлено главным образом на процессы зарождения сюжетного повествования в тех жанрах древнерусской словесности, которые по своим задачам представляются далекими от литературы. В таком эволюционном, «диахроническом» аспекте устойчивым казалось включение в систему художественной литературы только «беллетристических» произведений 1, тогда как произведения прочих жанров (в том числе историческое повествование) иногда считались разнородными по своему эстетическому качеству, а потому не всегда доступными для описания методами литературоведения.
В настоящее время более адекватным самому предмету представляется иной подход к анализу художественной структуры средневекового произведения, учитывающий взаимоотношения всех его структурных уровней, формирующих его повество- вательное пространство 2. Данный подход устанавливает приоритет «синхронного» прочтения произведения, с позиций его актуальности для историко-литературного контекста конкретной эпохи.
Начиная с работ К. Н. Бестужева-Рюмина, изучение волынского летописания XIII в. в Ипатьевском своде проводилось преимущественно с источниковедческих позиций и было сконцентрировано на проблемах выявления его источников, восходящих к тому или иному центру летописания (Галич, Киев, Чернигов, Холм, Владимир Волынский). С исследования Л. В. Черепнина начинается процесс реконструкции сводов-протографов XIII в. и этапов работы редакторов. Так, Черепниным был выделен Летописец Даниила Галицкого [1941].
После появления монографии В. Т. Па-шуто [1950] на долгое время общепризнанным стало выделение среди источников памятника самостоятельных княжеских летописцев (Даниила, Василька и их сыновей). К их числу В. Т. Пашуто добавил также отдельную литовскую летопись. А. И. Генсь-орский полагал, что в тексте нашло отраже- ние также летописание Льва Даниловича [1958. С. 9–10].
В настоящее время наиболее дробный ряд источников попытался реконструировать Н. Ф. Котляр, которому памятник представляется сводом воинских повестей, возможно имевших самостоятельное литературное бытование [1997; 2005].
Много внимания галицкому летописанию уделил А. С. Орлов, который одним из первых занялся именно эстетической стороной средневековых литературных произведений. Исследователь с наибольшей полнотой выявил объем библейских и хронографических цитат и реминисценций в памятнике [1926].
И. П. Еремин в полемике с В. Т. Пашуто и М. С. Грушевским доказывал единовременное составление последнего фрагмента памятника, охватывающего историю 1261– 1292 гг., известного как Волынская летопись, трудами одного автора 3.
Ученых, занимавшихся проблемами исследования Летописца Даниила Галицкого как литературного произведения, в первую очередь интересовали его жанровая специфика (Д. С. Лихачев, А. Н. Ужанков) и стилистические отличия от волынского продолжения (А. А. Пауткин).
Как текстологическое, так и историколитературное внимание лишь к одному фрагменту отодвинуло на второй план изучение всего повествования, излагающего историю правления Романовичей, как целостного концептуального произведения. Это повествование, охватывающее период от смерти Романа Мстиславича до вокняжения его внука Мстислава на Волыни, определяется нами как Летопись Волынских Моно-маховичей [Подопригора, 2013. С. 133]. Его дошедший текст, безусловно, монтажен, как и всякое историческое повествование, поэтому мы не стремимся к пересмотру выво- дов об этапах его редактирования и составе источников.
Право выделить Летопись Волынских Мономаховичей как единовременный авторский текст нам дает, прежде всего, его особая, гибкая временна́ я структура: события как бы вытекают одно из другого, книжник осознает и декларирует свое право « овогда ж писати в предняя, овогда же въступати в задняя » (820) 4 . О единстве авторского взгляда на временну́ ю организацию создаваемого им произведения свидетельствуют хронологические указания. Поскольку они оказались искажены Ипатьевским списком, мы будем опираться на Хлебниковский список как наиболее близкий первоначальному состоянию текста 5.
Эпоха начала XIII в. осознается автором как «те лета», « лета Данила и Василка Романович » (739). Последовательность этих событий определенным образом описывается автором; например, между возвращением Рюрика в Киев и пришествием Игоревичей « малу времени минувшу » (718), распря между Игоревичами случилась после того, как Лестько отправил Даниила к венгерскому королю (« долгу времени минувшу » – 719), после того, как Мстислав Удатный был приглашен на Галицкий стол, Даниил взял его дочь в жены (« В та ж лета времени минувшу » – 732) и т. д.
Автор не ставит перед собой задачу последовательного изложения всех событий. Его не интересует очередность походов Рюрика Ростиславича и Ольговичей на Галич, об отношениях Ростислава Михайловича и Даниила он может сказать обобщенно: « бывшю же межи ими овогда миру, овогда рати » (777), приход татар к Бакоте случился « в та ж лета, или преже или потом » (827). В некоторых случаях автор устанавливает связь с другими известными и, по-види-мому, памятными для него событиями, избегая при этом годовых датировок. В качестве подобных вех выступают для него основание Холма Даниилом (799), осада
Куремсой Кременца (838), убийство Мин-довга, год похода Лестька Черного на Пере-ворск (890).
Более дробные указания на временну́ ю связь событий в повествовании начинают появляться только при изложении последних лет княжения Владимира Васильковича. Так, сообщая, что Тройден еще княжил в литовской земле 6, автор упоминает поход литовцев на Люблин, который длился три дня (878). Телебуга не мог выбраться из Венгрии в течение сорока недель (891). Нашествие татар на Польшу заняло 10 дней , а на землях Льва Телебуга стоял две недели (894). Временна́я связь в изложении событий последних лет становится очень уплотненной. Так, мы узнаем, что Мстислав перед отъездом в Луцк пробыл во Владимире Волынском « неколико дний », о приезде послов Юрия Львовича к Владимиру после люблинского похода Юрия сообщается с помощью переходной формулы « Быс же по сем минувшим непоколицем днем » (911).
Наиболее точные датировки, вплоть до времени суток встречаются только в эпизодах, связанных с Владимиром Васильковичем и Мстиславом. Автор сообщает, например, что Владимир по пути в Каменец пробыл два дня в Берестье (899), а «положил ряд» с Мстиславом на Федоровой неделе (905). На четвертый год своей болезни Владимир семь недель не мог ничего есть, кроме воды, а приближение кончины почувствовал « в куры » на пятницу. Автором названы даты отпевания и погребения Владимира и вступления Мстислава Даниловича на Волынский стол, которое пришлось на Пасху 10 апреля .
Летопись Волынских Мономаховичей представляет собой яркий пример меморатного повествования 7. Поскольку ее автор явно не ориентировался на погодную сетку, организация повествовательного ряда в сочинении направляется иными способами как в «линейном» его построении, так и в объединяющем идейном плане.
В экспозиции произведения сразу заявлен авторский интерес к судьбе сыновей Романа Мстиславича – «Оставившима же ся двема сынома его: един 4 лета, а дру-гыи две лет» (717). После смерти отца Романовичи оказались вынуждены бежать из Галича во Владимир из-за неверности галицких бояр, призвавших к себе на княжение Владимира Игоревича.
Владимир осадил вотчинный город Романовичей 8, и городские бояре уже собрались сдать город и выдать княжичей. Даниила спасает дядька, известный галицкий боярин Мирослав, который, возможно, спрятав Даниила под своей одеждой, выходит из города: « Данила ж возьмя дядко пред ся, изыде из града » (718). Двухлетнего Василька выносят поп Юрий с кормилицей через проход в городской стене (« дерою вон из града »). Вдова Романа с детьми покидает родную землю, не зная куда бежать, ибо польский герцог Лестько, как сообщает автор, воевал с Романом и не заключил мира.
Кстати, наличие в повествовании о событиях начала XIII в. замечаний, разъясняющих их предысторию 9, наводит на предположение, что автор мог слышать о тех временах. События времени Романа, о котором повествователь говорит как о еще не забытом (« памятном »), а не как о незабвенном (« приснопамятном », как читается в Ипатьевском списке – 715) 10, могли быть ему известны по рассказам современников Романа. Вероятно, эти замечания могут натолкнуть на пересмотр гипотезы об утрате какого-либо фрагмента начальной части сочинения [Приселков, 1996. С. 290; Котляр, 1997. С. 84; Літопис руський, 1989. С. VIII].
Автор неоднократно изображает своих героев в драматических эпизодах 11, описы- вая неверность галичан или борьбу Даниила в союзе с Мстиславом Удатным против венгров. Так, рассказывая о выступлении венгерского войска против князя, автор сообщает, что двоюродный брат Даниила Александр Белзский выходит из союза с Романовичами, и, по замечанию автора, «не бе има помощи ни отколеже, разве от Бога» (736).
Рассказывая о судьбе Романовичей, мятежах и войнах, когда « измлада бо не бы има покоя », автор на протяжении всего повествования стремится изобразить взаимную дружбу братьев: Василько спасает Даниила от заговорщиков, а столицу его княжества, Холм, от татарского разорения, описаны многочисленные сражения, в которых участвуют братья. Автор не забывает упомянуть, что братья постоянно скорбят « об обидах » и радуются « о здравьи » друг друга.
Основное содержание центрального текстового блока 12 в повествовании о Данииле и Васильке заявлено самим автором: «По семь скажем многий мятежь, великия льсти и бесчисленныа рати» (762). Он открывается яркой экспозицией. Автор рассказывает о крамоле галицких бояр Моли-боговичей, которые, вступив в сговор с Александром Белзским, собрались поджечь дом, где находился Даниил, но благодаря Васильку Романовичу Даниил остался жив. Юный Василько вышел из дома, «обна-жившу меч свои, играя на слугу королева, иному похвативши щит играющи». Моли-боговичи, решив, что их замыслы раскрылись, бегут «яко и оканный Святополк» (762). Другой заговор замыслил боярин Филипп, попытавшийся обманом заманить князя в свой замок и убить. Рассказывая о боярских заговорах, автор стремится оправдать дальнейшую борьбу Даниила с его двоюродным братом Александром Белзским и «неверными» галичанами.
После побед Романовичей над крамольными боярами, Ростиславом Михайловичем и закрепления завоеванных земель за Даниилом в Орде повествование строится путем сочленения эпизодов, излагающих военные кампании Даниила (« бесчисленныа рати »).
Имеющей первостепенное значение в динамике повествования в этом блоке мы считаем тему «распространения славы» Даниила в русских землях и среди иноземных правителей. Так, рассказав о благополучном возвращении князя от Батыя, автор стремится подчеркнуть его возросший внешнеполитический авторитет: « Быс же ведомо странам приход его всем с Татар, яко Бог спасл его » (809). Следующий далее эпизод, хотя и вводится типичной для летописания формулой временного сочленения ( в то ж лето ), логически продолжает выбранную тему. Автор сообщает о посольстве от венгерского короля с предложением женитьбы Льва Даниловича на дочери Белы. По замечанию повествователя, король боялся Даниила, поскольку тот « был бе у татарех, победою победи Ростислава и Угры его » (809). Акцентированием политического значения победы под Ярославом объясняется введение в повествование последующего эпизода самой свадьбы и освобождения пленных венгерских бояр: « И поя дъщер его сын си (т. е. Лев Данилович. - В. П. ) жене и отдасть ему ятыя бояры, еже Бог въдасть в руци его, одолевшу ему с братом у Ярослава, и сътвори с нимь мир » (809).
В эпизоде, посвященном литовской политике Романовичей, согласие с волей Даниила проявляют немецкие рыцари, которые соглашаются даже заключить мир со своим врагом, литовским князем Выкинтом (« тебе деля мир сътворим с Викынтом, зане братью нашу многу погуби » - 815) и обещают помощь литовскому союзнику Даниила князю Тевтивилу. Рассказ о войне Даниила с Миндовгом завершается сообщением о захвате Романовичами Новогрудка и Городена, после чего побежденный Мин-довг отправляет посольство к Даниилу, « прося миру и хотя любве о сватстве » (819–820).
Следующий эпизод (австрийская кампания Даниила), по окончании которой чешский воевода Герборт присылает князю « мечь и покорение свое », завершается встречей Даниила с папскими послами. Следуя избранной логике повествования, летописец упоминает об окончании похода Даниила в Австрию 13 и последовательно переходит к теме его отношений со святым престолом: слава и могущество князя признаются теперь самим папой римским. Уже в следующем эпизоде, после слов « в то ж время » по Хлебниковскому списку, к Даниилу прибывают папские послы с королевскими регалиями.
Финальный панегирик Даниилу, помещенный после завершения рассказа о победе над ятвягами, подчеркивает значимость его побед не только для современных государей, но и для памяти его потомков: « По великом бо князи Романе никто же не бе воевал на не в Рускых князех, разве сына его Данила. Богом же даннаа емоу дань послоушество створи Лядьскою землею, сиречь в память детемь своим, яко от Бога мужьство ему показавшу, якоже премудрыи гронографь списа, якоже доб-родеянья в векы святяться » (835-836). Такая торжественная амплификация выступает в качестве закономерного завершения не только эпизодов ятвяжских войн, но и всего повествования « о бесчисленных ратях » Даниила (« якоже сказахом о ратех многих »).
Если в завершение австрийской кампании летописец сравнивает войны князя с походами старых русских князей, то здесь обращается уже к образцам всемирной истории. А. С. Орлов отметил в этой похвале Даниилу цитирование хроники Малалы [Орлов, 1926. С. 108–109]. Автор обращается к всемирно-историческим реминисценциям для усиления значимости деяний князя. Цитированный выше панегирик важен для него еще и потому, что Даниил в войнах с ятвягами достигает славы своего отца, которую утратил во время вынужденного поклонения Батыю в ханской ставке (808).
В композиционном построении повествования о правлении Даниила и Василька автор стремится изложить историю постепенного восстановления княжества Романа Мстиславича и утверждения власти его сыновей. Рассказывая о княжении Владимира Васильковича, автор представляет князя богоизбранным и богоугодным правителем, праведная жизнь которого противопоставлена нечестию литовских языческих князей и татарских темников, гордости и безумию Льва Даниловича и его сына Юрия, польского князя Болеслава Семовитовича. Важную роль в обрисовке этого конфликта играют эпитеты «оканный и безаконьный» (Тройден, Ногай), «проклятый, немилостивый» (Тройден), «оканный, проклятый» (Ногай) и т. п. Оправдывая участие Владимира в войне с Литвой, автор обращается к сильной аналогии: противник князя, «нечестивый» Тройден, сравнивается с Антиохом Эпифаном, Иродом и Нероном, которых он даже превзошел своими злыми деяниями (869).
Если в образах Даниила и Василька воплощается идеал князей-воинов, стремящихся «поревновать» славе предков 14, то Владимир Василькович в своих военных деяниях представлен по большей части миротворцем. Его войны автор подает через призму характеристики князя, который « правдолюбьемь светяс к всей своей братьи, и к бояром, и к простым людемь » (870). Миротворческие стремления Владимира иллюстрируют эпизоды примирения с ятвягами (870–871), войны с литовцами (рассказ о ней автор завершает сообщением о примирении, см.: 874–875), и особенно войны с Конрадом Семовитовичем (880).
Вступление Владимира в войну братьев Конрада и Болеслава Семовитовичей на стороне Конрада автор вновь мотивирует «братолюбием» князя: узнав о позоре Конрада, Владимир « сжалиси и росплакався » и отправил воинов на помощь своему двоюродному брату (883). В отношениях с давними противниками волынских князей, ятвягами, Владимир демонстрирует милосердие: когда во время голода ятвяги отправляют посольство к князю, Владимир посылает им « жито в лодьях » (879).
Связь эпизодов во многом определяется темой добродетелей Владимира (смирение, братолюбие, милость, правдолюбие, миротворчество, мудрость), а также божественного благоволения к его деяниям 15. В особый эпизод выделено повествование о его болезни и преставлении, открывающееся словами « Князю же Вълодимеру лежащу в болести своеи полно 4 лета. Болезнь ж его си скажемь » (914). Его введение позволяет автору рассказать о добродетелях князя и исполнении им евангельских заповедей.
Заявленный в настоящей статье подход к Летописи Волынских Мономаховичей как единому авторскому тексту позволяет предложить решение некоторых проблем, возникавших при его прочтении. Так, согласно общепринятой точке зрения на историю сложения Ипатьевского свода, при его составлении был использован дефектный источник, а потому повествование о походе Бурандая на Литву оказалось оборванным.
По нашему предположению, обрыва в этом месте нет. Автор, рассказав о пришествии Бурандая, завершил эпизод обращением Даниила к сыновьям Шварну и Льву и племяннику Владимиру: « Аще вы будете у мена ездети у станы к ним, аще ли – аз буду » (848). Эта фраза считается незаконченной из-за обрыва источника, но поскольку она отражает нормы разговорной речи, в придаточном предложении опущена форма инфинитива глагола «ездити» 16.
Поэтому, с нашей точки зрения, допустимо такое понимание смысла слов Даниила: «Если вы окажетесь у меня, вы поедете к ним в станы, а если нет – я поеду». Даниил, услышав весть о скором приходе татар, отослал от себя сыновей и племянника, сказав им, что сможет ехать к татарам только при условии, что те будут в безопасности. После этого эпизода в тексте помещена переходная фраза: «Посемь же минувшима двема летома и бысть тишина по всеи земли» (848), и далее, вполне в духе всего повествования, речь идет уже о другом пришествии Бурандая.
Об авторском отношении к композиционному построению повествования свидетельствуют многочисленные авторские ремарки от первого лица (« рекохом », « писахом », « древле писахом », « переди списахом »). Образ автора-рассказчика раскрывается на протяжении всего повествования за счет этих традиционных средств. Так, автор постоянно отсылает к тем или иным эпизодам либо лицам, о которых он говорил ранее (836, 837, 842, 861, 890, 892, 908). Неоднократно встречаются замечания, что, обрабатывая источники, автор сознательно опустил некоторые детали: договор между Белой и Даниилом он « за множство весь не писа-хом », Мстислав, покинув Владимир, объезжал собственные города, названия которых автор также « не списахом » (905).
Отказываясь от традиционного изложения событий по ряду лет, автор Летописи Волынских Мономаховичей создает литературное произведение, по своим структурным признакам сближающееся с типом византийских императорских биографий, семейных историй (Жизнеописание Василия Македонянина, Алексиада Анны Комниной). Жизнеописания с экскурсом в славное прошлое рода героя, которое выступает в качестве мотивировки его дальнейших поступков, рассказом о постепенном утверждении власти правителя и разбиением повествования на текстовые блоки с сериями эпизодов «внутренних» и «внешних» деяний, с развернутым рассказом о строительной деятельности известны в византийской литературе. В качестве наиболее близкой литературной параллели можно указать панегирическое жизнеописание Василия Македонянина, входящее в хронику Продолжателя Феофана. Задачи настоящей статьи ограничены постановкой проблемы изучения Летописи Волынских Мономахо-вичей как «авторской истории», поэтому сопоставительный анализ исторических повествований византийской и древнерусской традиций требует специального исследования.
В целом структуру летописи Волынских Мономаховичей как единого авторского текста можно описать следующим образом. В экспозиции сообщается о былом величии предков династии и наставших после смерти Романа мятежах и крамолах, когда враги собирались «искоренити племя Романово». В первых текстовых блоках эпизоды концентрируются вокруг судьбы двух братьев Даниила и Василька: от мятежей и войн, сопровождающих их юность, до окончательного утверждения их власти в Галицко-Волынском княжестве. Восстановление «славы» рода во внутренних и внешних войнах, политических и строительных деяниях придает повествованию сюжетную динамику. Драматизируя свой рассказ, летописец не только последовательно отмечает этапы борьбы князей за свой удел, но и стремится показать, что власть досталась потомкам Романа «с великим потом». Затем, после кульминационного эпизода победы, одержанной Романовичами над Ростиславом Михайловичем, повествование направляется «распространением славы» Даниила и Василька в войнах с язычниками, иностранных делах и восстановлением утраченной славы Романа Мстиславича.
Если в истории правления Даниила и Василька автор стремится к триумфальному завершению воинских эпизодов (« многих ратей »), то в изложении княжения Владимира Васильковича – прежде всего тех, где Владимир выступает как благоверный правитель. Этой цели служит и эпизод болезни князя, уничтожающей тело Владимира Васильковича при жизни, и рассказ о чудесном обретении его тела « целым и белым » после вскрытия гробницы. Линия повествования приводит к луцкому князю Мстиславу Даниловичу, сыну Даниила Галицкого и наследнику Владимира Васильковича на волынском столе.
Таким образом, автор создает свое повествование для второго поколения потомков Романа, когда отношения между ними уже разладились: Лев Данилович и его сын Юрий неоднократно посягали на владения Владимира и Мстислава. Автор, постоянно напоминая о взаимной поддержке и доверии между Даниилом и Васильком во время мятежей, войн и нашествий татар, по-видимому, стремился дать их наследникам «образ братолюбия». Также ему было важно зафиксировать «достойные памяти» деяния предков, в чем, вероятно, была потребность у его предполагаемого адресата эпохи «татарской неволи» и вынужденного подчинения «цесарям».
Мы затронули только один из уровней повествовательного пространства Летописи Волынских Мономаховичей, а именно вре-менну́ ю структуру и обусловленные ей способы расположения повествовательного материала в сочинении. Контекстуальные связи памятника в литературе своей эпохи и поиски конкретной личности автора требуют дальнейшего изучения.
VOLYNIAN MONOMAKHOVICH’S CHRONICLE AS AUNHOR’S TEXT
Список литературы Летопись Волынских Мономаховичей как авторский текст
- Генсьорский О. I. Галицько-Волинський лiтопис (процесс складання, редакцiї i редактори). Київ, 1958.
- Дергачева-Скоп Е. И. Сибирское летописание в общерусском литературном контексте конца XVI -середины XVII века. Екатеринбург, 2000.
- Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. «История Сибирская» (повествовательное пространство и повествовательная достоверность)//έή (Искусство грамматики). Новосибирск, 2004. Вып. С. 67-84.
- Еремин И. П. Волынская летопись 1289-1290 г.//ТОДРЛ. 1957. Т. 13. С. 102-117.
- Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970.
- Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская летопись (источники, структура, жанровые и идейные особенности)//Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования, 1995 год. М., 1997. С. 80-165.
- Котляр Н. Ф. Композиция, источники, жанровые и идейные характеристики Галицко-Волынской летописи//Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование/Сост. Н. Ф. Котляр, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин; под ред. Н. Ф. Котляра. СПб., 2005.
- Лiтопис руський/Пер. з давньорус. Л. Е. Махновця. Київ, 1989.
- Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи//Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Л., 1926. Т. 31. С. 93-126.
- Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.
- Подопригора В. В. Топика исторического повествования Летописи Волынских Мономаховичей//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 9: Филология. С. 132-141.
- Приселков М. Д. История русского летописания XI-XIV вв. СПб., 1996. ПСРЛ. 2-е изд. М., 2001. Т. 2: Ипатьевская летопись.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893. Т. 1; 1902. Т. 2.
- Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого//Исторические записки. 1941. № 12. С. 228-253.
- Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938.