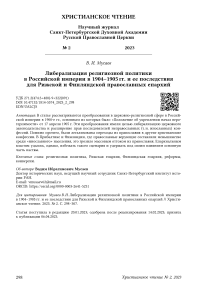Либерализация религиозной политики в Российской империи в 1904-1905 гг. и ее последствия для Рижской и Финляндской православных епархий
Автор: Мусаев В.И.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются преобразования в церковно-религиозной сфере в Российской империи в 1900-е гг., основным из которых было «Положение об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. Эти преобразования имели целью либерализацию церковного законодательства и расширение прав последователей неправославных (т. н. инославных) конфессий. Помимо прочего, были легализованы переходы из православия в другие христианские конфессии. В Прибалтике и Финляндии, где православные верующие составляли меньшинство среди «инославного» населения, это грозило массовым оттоком из православия. Епархиальным властям удалось, однако, избежать такого сценария и удержать под своим влиянием основную часть паствы.
Религиозная политика, рижская епархия, финляндская епархия, реформы, конверсии
Короткий адрес: https://sciup.org/140300874
IDR: 140300874 | УДК: 271.2(474.3+480)-9+322(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_298
Текст научной статьи Либерализация религиозной политики в Российской империи в 1904-1905 гг. и ее последствия для Рижской и Финляндской православных епархий
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No. 2
Vadim I. Musaev
Liberalization of the State Religious Policy in the Russian Empire in 1904 and 1905 and its Aftermath for the Orthodox Dioceses of Riga and Finland
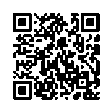
UDK 271.2(474.3+480)-9+322(091)
EDN UALCJS
Изменения в религиозной политике российского руководства, наступившие с 1904–1905 гг., сказались на конфессиональной ситуации в империи в целом, как и в ее отдельных частях. Положение православия как государственного вероисповедания сохранялось, однако в общем контексте демократических преобразований были расширены права последователей других конфессий. Уже в царском манифесте от 26 февраля 1903 г. было признано за благо «укрепить неуклонное властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах империи российской, которые, благоговейно почитая Православную Церковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем русским подданным инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной» [Бердников, 1914, 16]. 5 июля 1904 г. циркуляром Министерства внутренних дел (далее — МВД) губернаторам было разъяснено, что «переход лиц, принадлежащих к одному из инославных христианских исповеданий, в другое таковое же разрешается губернатором» [Буткевич, 1913, 12]. Комитетом министров в феврале 1905 г. было составлено положение, утвержденное императором 11 февраля, «об отмене всех стесняющих свобод исповедания веры и не основанных прямо на законе административных распоряжений, от каких бы начальств они не исходили, и о помиловании тех лиц, которые по особым Высоч[айшим] повелениям были подвергнуты без суда высылке из мест постоянного жительства или лишению свободы за религиозные выступления и вытекающие из них поступки» (Собр. Узак. № 49, 22 марта 1905, ст. 389).
Итогом преобразований стало положение Комитета министров об укреплении начал веротерпимости, высочайше утвержденное 17 апреля 1905 г. Касательно общих начал веротерпимости положение гласило: «1) Отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий, причем отпавшее, по достижении совершеннолетия, от православия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало. 2) При переходе одного из супругов, исповедующих одну и ту же христианскую веру, в другое христианское исповедание, все не достигшие совершеннолетия дети остаются в прежней вере другого супруга, а при переходе обоих супругов вместе дети их до 14 лет следуют вере родителей, достигшие же сего возраста остаются в прежней своей религии» (Собр. Узак. № 49, 22 марта 1905, 1295). Таким образом, впервые официально допускался выход подданных империи из православия и переход в другую деноминацию. Положение, кроме того, допускало браки православных со старообрядцами и сектантами (Собр. Узак. № 49, 22 марта 1905, 372).
Переход из православия в другие конфессии был легализован. Если для внутренних российских губерний, в которых православие безраздельно господствовало, это не могло иметь слишком серьезных последствий (хотя отдельные случаи «отпадения» от православия наблюдались и там), то для имперских окраин, где православные составляли меньшинство населения, эти законодательные изменения были чреваты немалыми осложнениями для учреждений Православной Церкви. Это в первую очередь касалось западных окраин империи: Привислинского края (т. е. российской части Польши), части Северо-Западного края (Ковенской и литовской части Виленской губернии), Прибалтийских губерний и Финляндии, на территории которых располагались пять епархий Православной Церкви: Варшавская, Холмская, Литовская, Рижская и Финляндская. Помимо того что православные на этих территориях составляли не очень значительное меньшинство среди преобладавшего «инославного» (либо католического, либо лютеранского) населения, среди самих православных было немало т.н. «колеблющихся», которые происходили из семей, недавно обратившихся в православие из лютеранства (Эстония, Латвия) или униатства (Литва, Польша), и недостаточно твердо укрепились в православной вере. Среди них было немало таких, которые принадлежали к православию лишь номинально, и теперь у них появилась легальная возможность для обращения или возвращения к другой конфессии.
При этом католические ксёндзы и лютеранские пасторы, ранее занимавшиеся подпольной агитацией среди таких категорий верующих, теперь получили возможность действовать открыто.
Уже 28 мая 1905 г. Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД сообщал, что «со времени издания указа последовал уже целый ряд ходатайств со стороны лиц, по метрическим документам признаваемых православными, но в действительности не исповедующих православия, о присоединении их к той инославной христианской или нехристианской вере, к которой они или их предки принадлежали до присоединения к православию и которую они на самом деле исповедуют». Отмечалось, что «наибольшее число таких ходатайств возникло в по-униатских местностях Царства Польского и в населенных татарами-мусульманами местностях восточной окраины России», но в МВД также имелись «сведения о существовании в Прибалтийском крае значительной группы лиц латышского происхождения, числящихся православными, но в действительности исповедующих лютеранство и желающих оставаться в нем» (РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 158. Л. 1–2).
В Прибалтике, где и так оставалось значительное количество т.н. уклоняющихся и где и до издания положения 17 апреля 1905 г. межконфессиональные браки были распространенным явлением, а общеимперские правила о том, что дети от таких смешанных браков обязательно должны воспитываться в православии, далеко не всегда соблюдались, указ мог иметь следствием массовый выход из православия. В отчете по Рижской епархии за 1905 г. отмечалось, что объявление закона 17 апреля 1905 г. было встречено с особенной радостью и торжеством в лютеранских кругах, во всех лютеранских церквах совершались торжественные благодарственные службы, дома украшались флагами и цветами, и вообще энтузиазм между лютеранами был громадный (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2110. Л. 27). Затем последовал императорский манифест 17 октября 1905 г., который, как известно, имел важнейшее значение для либерализации общественно-политической жизни во всей стране, включая и Прибалтийские губернии.
В Финляндии, где до издания этого положения наблюдалась схожая ситуация с межконфессиональными браками и с соблюдением правил о крещении детей от таких браков в православие, указ от 17 апреля 1905 г. мог иметь такие же последствия. Еще в 1884 г. один местный священник писал: «Не буде закона, запрещающего переходить из господствующей православной веры в иную, половина или, по крайней мере, 1/3 часть православных финнов присоединилась бы к лютеранству» [Варфоломеев, 1914, 23]. Впрочем, после издания указа не было ясности в том, распространяется ли его действие на Финляндию. Руководство Финляндской епархии возбудило этот вопрос перед финляндским Сенатом. Совместно было решено, что следует ждать особого распоряжения на этот счет. Однако лица, желавшие перейти из православия в лютеранство, находили выход, не дожидаясь особого распоряжения. Они ехали в Петербург, где действие указа не вызывало сомнений, и там без переходного свидетельства (muuttokirja), только по священническому свидетельству, зачислялись в местный финский лютеранский приход, а затем уже из него переписывались в соответствующий лютеранский приход в Финляндии [Варфоломеев, 1915, 3–4]. Таким способом воспользовались в общей сложности более 200 человек [Laasonen, 1972, 107].
Основным следствием всех происшедших в 1905–1906 гг. перемен была заметная активизация финского лютеранского и в целом протестантского натиска на православное карельское население. В российской печати во время Первой русской революции появились понятия «панфиннизм» и «панфинская пропаганда»: этими терминами консервативные политики и публицисты стали обозначать разнообразную деятельность финских активистов в Карелии, направленную на усиление финско-протестантского политического и культурного влияния.
В целом последствия указа о свободе вероисповедания и усиления финско-протестантского натиска оказались для финляндского православия не столь пагубными, как этого можно было опасаться. Динамика изменения общей численности православной паствы Финляндской епархии, согласно данным годовых епархиальных отчетов, выглядела следующим образом: в 1905 г. — 56 293 человека, в 1906 г. — 55 759, в 1907 г. — 56 175, в 1908 г. — 57 026, в 1909 г. — 57 524, в 1910 г. — 59 529, в 1911 г. — 60 747, в 1912 г. — 61 257, в 1913 г. — 62 723, в 1914 г. — 63 9671. Таким образом, только в 1906 г., когда число выходов из православия было наибольшим, имело место сокращение количества прихожан епархии (на 534 человека). В дальнейшем, однако, положительная динамика была восстановлена, и вновь наблюдался медленный, но стабильный рост. Всего с 1906 по 1914 г., как явствует из приведенных данных, численность православных в Финляндии увеличилась более чем на 8000 человек. Переходы в лютеранство по-прежнему имели место, но их число год от года сокращалось: в 1907 г. было отмечено 316 случаев, в 1908 г. — 205, в 1909 г. — 100, в 1910 г. — 69, в 1911 г. — 60, в 1912 г. — 56, в 1913 г. — 60, в 1914 г. — 552. Архиепископ Сергий в беседе с корреспондентом «Нового времени» отмечал, «что даже в Куопиоской губернии, где шведоманство особенно сильно, и где, поэтому, мы боялись массовых отпадений, переходы в лютеранство были лишь единичными» (Новое время. 1911. 11 июня). В отчете за 1913 г. даже отмечалось, что «число отпадений от православия в лютеранство все уменьшается, и начинает замечаться отрадное явление обратных переходов в православие» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2617. Л. 22–22 об.).
Схожие проблемы наблюдались в это же время в Рижской епархии, охватывавшей территорию Прибалтийских губерний — Эстляндской, Лифляндской и Курляндской. После принятия положения 17 апреля 1905 г. крайне насущным был вопрос удержания паствы епархии в лоне православия. После установления свободы вероисповедания противостоять натиску лютеранства и других «инославных» конфессий стало значительно труднее. В отчете по епархии за 1905 г. епархиальный архиерей архиеп. Ага-фангел (Преображенский) сообщал: «Пасторы стали совершать требы у православных семейств без всякого разбора и принимать непосредственно лиц православного вероисповедания в лютеранство, совершенно игнорируя порядок, установленный на этот предмет Министром Внутренних Дел, и даже принимать лиц, не достигших совершеннолетия и малолетних, вопреки прямому смыслу Высочайшего Указа от 17 апреля 1905 г. При этом в оправдание своих действий пасторы указывают на Высочайший Манифест 17 октября 1905 г., как, по их мнению, отменивший действие Высочайшего Указа от 17 апреля 1905 г. и установивший будто бы полную свободу веры и совести, без всяких ограничений какими-либо временными правилами или инструкциями» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2617. Л. 26 об.). По итогам 1905 г. констатировалось сокращение численности православной паствы Рижской епархии. В лютеранство за год перешел 3831 человек, из них 2636 взрослых, кроме того, из приходских списков были исключены 2013 человек, «уклонившихся в очень давние годы и прекративших всякое уже общение с Православной Церковью». Имели место и переходы в католичество, впрочем, единичные — всего в эту веру «уклонились» 69 человек (в основном в Курляндской губернии, где было довольно значительное число католиков). По мнению архиепископа, «уклонения из православия в лютеранство и католичество происходили, главным образом, по причинам семейного, экономического, бытового характера. Случаи перехода собственно по нерасположенности к православной вере и по влечению к лютеранству или католичеству, как к лучшей… вере, были весьма редки» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2617. Л. 33 об.).
Эстляндский губернатор И. В. Коростовец, анализируя причины переходов православных эстонцев в лютеранство в отчете о состоянии губернии за 1907 и 1908 гг., выделял следующие: «1) подавляющее повседневное влияние всюду на православного эстонца лютеранской среды, — в школе, семье и вообще жизни, — в связи с материальной зависимостью от немцев-работодателей и помещиков; 2) незнание русского языка, возможность совершения браков во время постов и в недозволенных в православии степенях родства, сравнительная легкость исполнения в лютеранстве христианских обрядностей и зачастую неудобство посещения православной церкви за дальностью расстояния, и 3) нетвердость в православии новообращенных, которая в большинстве объясняется тем обстоятельством, что переход в православие совершался не всегда по убеждению, а часто под влиянием случайных внешних причин, как, например, иногда вследствие распространенных одно время среди эстонцев слухов о материальных выгодах, которыми будто наделяет правительство перешедших в православие, в чем, конечно, им приходилось впоследствии разубеждаться» (РГИА. Ф. 796. Оп. 190. 1 отд. 2 ст. Д. 288. Л. 3). Временный прибалтийский генерал-губернатор А. Н. Меллер-Закомельский в письме председателю Совета министров П. А. Столыпину от 30 октября 1908 г. в числе причин переходов латышей и эстонцев из православия в лютеранство называл «слабый состав русского духовенства, в особенности сельского, бездеятельность, лень и недостаток умственного развития его, причем некоторые, предаваясь даже порочной и предосудительной жизни, отталкивают своим образом жизни прихожан от православия». Генерал-губернатор далее продолжал: «Трудно бороться с пасторами, более развитыми и лучше обеспеченными материально, да и мало рвения, напр., сам Архиепископ Рижский не посещает епархию и обыкновенно, кроме Митавы, нигде не бывает» [Имперская политика, 2000, 313].
Угрожающих размеров «уклонения в инославие» все же и здесь не приобрели. Переходы в другие конфессии продолжались, однако их число начало сокращаться. В 1906 г. в лютеранство перешли 2995 человек, из них 1881 взрослый (подавляющее большинство — 2560 — в Лифляндской губернии), в католичество — 104. Отмечалось, что при переходе в лютеранство не замечалось в уклонившихся враждебного отношения к православию: «Многие признавались священникам при увещаниях, что они переходят в лютеранство не по убеждению, а лишь вследствие житейских обстоятельств и материальных расчетов или вследствие настояния мужей (или жен), для сохранения семейного мира и согласия, или, наконец, вследствие давления со стороны хозяев-лютеран» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2170. Л. 23–24). В дальнейшем число «отпадений» от православия составляло немногим более тысячи в год, включая несовершеннолетних членов семей. До конца 1910-х гг. это выразилось в следующих цифрах3:
|
1905 г. |
1906 г. |
1907 г. |
1908 г. |
1909 г. |
1910 г. |
|
|
в лютеранство |
3831 |
2995 |
1297 |
7214 |
1081 |
1192 |
|
в католичество |
69 |
104 |
нет данных |
21 |
31 |
66 |
Больше всего «отпадений» приходилось по-прежнему на Лифляндскую губернию. В 1907 г., например, из 1297 переходов в лютеранство 966 случаев имели место в Лифляндской губернии, и только 331 — в Эстляндской и Курляндской (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2234. Л. 22 об.). В Курляндской губернии в 1905–1908 гг., по данным губернских властей, в лютеранство перешли 1030 человек. Данные по Эстляндской губернии за тот же период были противоречивыми: епархиальное руководство давало цифру в 2705 человек. Эстляндский губернатор считал эти данные заниженными, так как в них не были учтены переходы в первые месяцы после опубликования указа 17 апреля 1905 г., и сообщал о 4256 случаях (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 268. Л. 9, 12 об. — 13). 14 марта 1906 г. было высочайше утверждено мнение Государственного Совета о возобновлении уголовного преследования за совершение треб у православных семейств, перевод в лютеранство вопреки порядку, установленному циркуляром МВД от 18 августа 1905 г., принятие в лютеранство несовершеннолетних и крещение по лютеранскому обряду детей из смешанных семей (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2170. Л. 20). В этом и в последующие годы по подобным обвинениям было возбуждено несколько уголовных дел. Это отчасти ограничило чрезмерную активность пасторов в деле пропаганды лютеранства и заставило их вести себя более осторожно.
Переходы из других исповеданий в православие также имели место. За тот же период они выглядели следующим образом5:
|
1905 г. |
1906 г. |
1907 г. |
1908 г. |
1909 г. |
1910 г. |
|
|
лютеран |
366 |
457 |
472 |
486 |
486 |
541 |
|
католиков |
26 |
49 |
61 |
58 |
84 |
86 |
|
старообрядцев |
21 |
18 |
23 |
16 |
26 |
44 |
|
реформатов |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
2 |
|
иудеев |
3 |
9 |
7 |
10 |
7 |
17 |
|
других |
– |
3 |
1 |
– |
3 |
– |
|
Всего |
420 |
538 |
565 |
570 |
606 |
690 |
Таким образом, за шесть лет из православия в другие вероисповедания перешли около 11 500 человек, в том числе около 11 200 человек — в лютеранство.
Присоединений к Православной Церкви из других конфессий за этот же период было значительно меньше, они составили 3389 человек, из них 2808 из лютеранства, однако год от года их число медленно, но неуклонно увеличивалось. Количество перешедших из католичества в православие и наоборот оказалось примерно одинаковым, с некоторым перевесом первых (364 против приблизительно 300). В епархиальных отчетах отмечалось, что «многие из уклонившихся продолжают усердно посещать православную церковь. Очевидно, уклонение их не было сознательным актом, и в душе они по-прежнему остаются православными. Есть и случаи возвращения отпавших назад в православие» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2295. Л. 23 об.). Православной паствы в 1910 г., последнем году пребывания архиеп. Агафангела на рижской архиерейской кафедре, по церковным документам значилось 259 393 человека (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2412. Л. 23 об.) — почти на 9000 человек больше, чем в первый год его руководства Рижской епархией.
В 1911-1914гг. продолжались переходы как из православия в другие конфессии, в основном в лютеранство, так и наоборот. В лютеранство перешли в 1911 г. 1036 человек, в 1912 г. — 935, в 1913 г. — 900 и в 1914 г. — 675, т.е. всего 3546 человек. Число «отпадений» в лютеранство, таким образом, год от года сокращалось. Наиболее резонансным среди переходов в этот период было принятие лютеранства бароном А. Г. Икскуль-Гилленбрандом. Как отмечалось в одном из епархиальных отчетов, «барон Икскуль-Гилленбранд родился от православной матери и крещен был по обряду Православной Церкви. Но так как мать его была православной лишь номинально, оставаясь в духе коренной немкой-лютеранкой, то и он вырос вне влияния Православной Церкви, в чисто немецкой среде. Получив образование в Николаевском военном инженерном училище и в Николаевской академии Генерального Штаба, затем командовал Саратовским полком, участвовал в войне с Японией, после войны состоял Начальником штаба 3-го армейского корпуса и в 1908 г. вышел в отставку в чине генерал-майора. Прежде он аккуратно исполнял в православной церкви христианский долг исповеди и Св. Причастия, но со времени выхода и отставку он совершенно перестал посещать храм. Теперь он „жаждет свободы'1 для перехода в лютеранство, чтобы с любимой женой-лютеранкой окончить мирно жизнь в религии предков и быть похороненным по лютеранскому ритуалу в фамильном склепе» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 28 об. — 29). В католичество за эти же годы перешли 254 человека (по годам с 1911 по 1914 г. соответственно 69, 66, 77 и 42) (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2477. Л. 33; Д. 2540. Л. 32 об.; Д. 2602. Л. 29 об.; Д. 2662. Л. 29 об.).
Имели место также отдельные переходы в старообрядчество и в свободные протестантские общины, однако широких масштабов они не приобретали. В старообрядчество в 1914 г., например, «уклонились» 15 человек. Всего в 1914 г. в Рижской епархии старообрядцев по церковным книгам значилось 21 560 человек (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 39-39 об.) (на территории Прибалтики в ее современном понимании старообрядчество было распространено в основном в Восточной Латвии — Латгале, которая в то время относилась к Витебской губернии, а в церковном отношении — к Полоцко-Витебской епархии). В свободные общины перешли в 1912 г. 80 человек, в 1913 г. — 52, и в 1914 г. — 33 (в том числе в баптизм — 14 человек, в секту евангельских христиан — 14, в адвентизм — 5) (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 43 об.), т.е. всего за три года 165 человек. По донесениям приходских священников, православные в сельских приходах перестали интересоваться учениями сектантов так, как это было в предыдущие годы: «По местам в сектантских собраниях участвуют только последователи секты, а посторонних не бывает. Люди, прежде считавшиеся уклонившимися в сектантство, стали опять приходить в Православную Церковь и даже исполнять долг исповеди и Св. Причастия. Иные, перешедшие в секту, просят священников не считать их совершенно порвавшими связь с Церковью. Что сектантство мало удовлетворяет своих последователей, видно из того, что многие, отпавшие от Церкви, переходят из одной секты в другую, осуждая ту секту, которую оставили. Священники же в своих приходах прилагают всякое старание к тому, чтобы ослабить влияние сектантов и оградить свою паству от расхищения. С этой целью они в проповедях с церковной кафедры обличают лжеучения сектантов и предостерегают прихожан от посещения сектантских собраний» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 40).
Переходы в православие из других исповеданий за те же годы выглядели так6:
|
1911 г. |
1912 г. |
1913 г. |
1914 г. |
|
|
лютеран |
620 |
583 |
600 |
946 |
|
католиков |
99 |
106 |
102 |
151 |
|
старообрядцев |
32 |
38 |
38 |
68 |
|
реформатов |
2 |
7 |
7 |
12 |
|
иудеев |
14 |
19 |
23 |
25 |
|
других |
– |
4 |
2 |
– |
|
Всего |
767 |
757 |
772 |
1206 |
Всего, таким образом, в православие перешли 3502 человека, из них 2749 из лютеранства. Как особо заслуживающие внимания были отмечены переходы в православие католического ксёндза Ф. Ковалевского и баптистских наставников Ф. Краге и А. Ширмеля (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 30 об.). Знаменательно, что в 1914 г. переходы в православие впервые с 1905 г. численно превзошли «уклонения» в другие конфессии (1206 против 765). Во многом это было связано с ростом патриотических чувств и антинемецких настроений в условиях начавшейся мировой войны. В частности, по донесению благочинных 1-го и 2-го Юрьевских округов, с началом войны с Германией отношение эстонцев-лютеран к православию заметно улучшилось: «Вместе с подъемом патриотических чувств, эсты проникаются невольным удивлением к силе и мощи русского государства, а отсюда и уважением ко всему русскому, в том числе и к „русской вере“ — православию» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 33). Рост симпатий к православию отмечался в епархиальном отчете за 1914 г. и среди латышей: «В Риге сильно участились случаи присоединения латышей к православию… Между тем случаи уклонения от православия стали весьма редки… Симптоматичным в этом отношении является замечаемый в настоящее время в некоторой части латышской печати поворот к православию. Более видные латышские газеты уже начинают благосклоннее относиться к православию, перепечатывая довольно часто статьи из „Вестника для православных латышей“» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2662. Л. 34).
Благоприятные тенденции в развитии православия в Прибалтике и Финляндии, сформировавшиеся к середине 1910-х гг., были прерваны событиями мировой войны. В Литовской и Рижской епархиях, в условиях близости фронта, а в 1915 г. и оккупации части территории Прибалтики немецкими войсками, власти были вынуждены приступить к эвакуации епархиальных учреждений, выехали из края и многие прихожане, а часть из них была мобилизована в действующую армию. В 1914 г. в Рижской епархии, по данным епархиального отчета, числились 273 023 прихожанина, а к 1916 г. их число сократилось до 212 192 человек (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2725. Л. 31 об. — 32). Из Финляндии, не затронутой событиями войны, эвакуации не проводилось, хотя определенные мероприятия с учетом военного времени проводились и там. После русской революции 1917 г. и распада Российской империи территории, на которых находились западные епархии Православной Церкви, стали независимыми государствами, и местным православным церковным структурам пришлось перестраиваться в условиях политического разобщения с Россией.
Список литературы Либерализация религиозной политики в Российской империи в 1904-1905 гг. и ее последствия для Рижской и Финляндской православных епархий
- Бердников (1914) - Бердников И. С. Наши новые законы и законопроекты о свободе совести. М., 1914.
- Буткевич (1913) - Буткевич Т. И. Протестантизм в России (из лекций по церковному праву). Харьков, 1913.
- Варфоломеев (1914) - Варфоломеев Н. Переходы из православия в лютеранство в Финляндии до 1905 года. Гельсингфорс, 1914.
- Варфоломеев (1915) - Варфоломеев Н. Отпадения от православия в Финляндии с 1905 года до наших дней. Гельсингфорс, 1915.
- Имперская политика (2000) - Имперская политика России в Прибалтике в начале ХХ века. Сб. документов и материалов / Сост. Т. Карьяхарм. Тарту, 2000.
- Новое время. 1911. 11 июня.
- РГИА. Ф. 796. Оп. 190. 1 отд. 2 ст. Д. 288; Ф. 796. Оп. 442. Д. 2110; Д. 2125; Д. 2170; Д. 2185; Д. 2234; Д. 2248; Д. 2295; Д. 2309; Д. 2352; Д. 2365; Д. 2412; Д. 2428; Д. 2477; Д. 2493; Д. 2540; Д. 2555; Д. 2602; Д. 2617; Д. 2662; Д. 2678; Д. 2725; Ф. 797. Оп. 77 (1907 г.). II отд. 3 стол. Д. 509; Ф. 821. Оп. 1. Д. 158; Ф. 821. Оп. 10. Д. 268.
- Собр. Узак. № 49. 22 марта 1905. Cт. 389.
- Dixon (2004) - Dixon S. Sergii (Stragorodskii) in the Russian Orthodox Diocese if Finland: Apostasy and Mixed Marriages, 1905-1917 // The Slavonic and East European Review. 2004. Vol. 82. No. 1.
- Laasonen (1972) - Laasonen P. Vuonna 1905 Venäjällä annetut uskonnonvapauslain vaikutus Suomen ortodoksisessa kirkossa // Ortodoksia. 1972. No. 21.