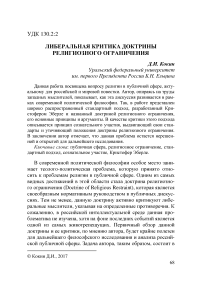Либеральная критика доктрины религиозного ограничения
Автор: Кокин Д.И.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена вопросу религии в публичной сфере, актуальному для российской и мировой повестки. Автор, опираясь на труды западных мыслителей, показывает, как эта дискуссия развивается в рамках современной политической философии. Так, в работе представлен широко распространенный стандартный подход, разработанный Кристофером Эберле и названный доктриной религиозного ограничения, его основные принципы и аргументы. В качестве критики этого подхода описывается принцип сознательного участия, выдвигающий свои стандарты и уточняющий положения доктрины религиозного ограничения. В заключении автор отмечает, что данная проблема остается нерешенной и открытой для дальнейшего исследования.
Публичная сфера, религиозное ограничение, стандартный подход, кристофер эберле
Короткий адрес: https://sciup.org/147228523
IDR: 147228523 | УДК: 130.2:2
Текст научной статьи Либеральная критика доктрины религиозного ограничения
представлении основных положений и аргументов доктрины религиозного ограничения, а также основных пунктов критики со стороны либеральных мыслителей.
Основные положения доктрины религиозного ограничения впервые были изложены профессором Военно-морской академии США Кристофером Эберле в его книге «Религиозное убеждение в либеральной политике» (Religious conviction in liberal politics, 2002) [6]. Эберле сводит взгляды многих известных политических теоретиков (таких как Джон Ролз, Юрген Хабермас, Марта Нуссбаум, Роберт Оди и др.) к единому концепту, который называет стандартной точкой зрения (standard view) или доктриной религиозного ограничения. Согласно стандартному подходу, в либеральной демократии необходима асимметрия объяснительной роли в публичной сфере в пользу светского обоснования (secular rationale). Религиозные аргументы в публичной сфере должны играть ограниченную роль (или вовсе быть исключены). Доктрина религиозного ограничения предполагает, что аргументы в защиту принудительных законов, основанные на религиозном обосновании (religious rationale), должны быть подкреплены убедительным светским обоснованием. Иными словами, граждане, выражая свою позицию относительно того или иного принудительного закона в публичной сфере, не могут обосновывать свою позицию, опираясь только на религиозные аргументы.
Эберле дает этой доктрине следующее определение: «гражданин в рамках либеральной демократии может поддержать принятие принудительного закона только в том случае, если он действительно верит, что имеет убедительное светское обоснование, которое он готов предложить в политической дискуссии» [4]. Эберле выделяет ключевые компоненты доктрины ограничения: во-первых, это моральное, а не правовое ограничение, применимое к гражданам либеральной демократии и, следовательно, не нуждающееся в каком-либо юридическом, социальном или институциональном ограничении. Во-вторых, это ограничение имеет инклюзивный характер: граждане не должны отказываться от своих религиозных убеждений, но они обязаны использовать светское обоснование в пользу или против приня- тия принудительного закона в публичной дискуссии [см.: 2, p. 243]. Кроме того, доктрина устанавливает определенные ограничения на аргументы светского характера, а также обязана предвидеть политические последствия своих ограничений, так как они не имеют законодательной силы. Исходя из этого, Эберле формулирует три основных аргумента в защиту доктрины ограничения [см.: 5, p. 208–215]:
-
1. Аргумент от религиозных войн (Religious Warfare). Практикуя ограничение религиозного обоснования в публичной сфере, мы можем предотвратить гражданские конфликты, основанные на религиозных разногласиях. Роберт Оди утверждает, что «если религиозные и светские соображения не сбалансированы должным образом, то возникает проблема: битва богов за социальный контроль. Подобные непреклонные абсолютные истины легко ведут к разрушению и смерти» [1, p. 103].
-
2. Аргумент от раскола (Divisiveness). Граждане, которым навязали закон, основанный на религиозных убеждениях, будут испытывать злость и разочарование. Это приведет к острым социальным противоречиям, граждане будут агрессивно и недоверчиво настроены по отношению друг к другу и к правительству. В итоге, в поляризующемся плюралистичном обществе внутренние противоречия будут нарастать, что неизбежно приведет к неблагоприятным последствиям.
-
3. Аргумент от уважения (Respect). Этот выдающийся аргумент стандартного подхода лучше всего сформулирован Джеймсом Ботчером [см.: 3] и заключается в следующем: граждане, поддерживающие принудительный закон только на основании своих религиозных убеждений, выражают, таким образом, неуважение к своим соотечественникам. Так как каждый гражданин заслуживает уважения как личность, он имеет определенную автономию и может сам выбирать свой образ жизни. В случае государственного принуждения (которое в некоторых случаях необходимо) требуется определенное обоснование для тех, кого принуждают к чему-либо. Учитывая то, что все граждане достаточно рациональны, то общим основанием для принятия закона может быть только светское обоснование. Если это подтверждение не имеет светского обоснования, то оно мораль-
- но недопустимо (так как для многих людей это принуждение необоснованно). Как замечает Эберле, единственным принуждением в данном случае является то, что все граждане обязаны принять доктрину религиозного ограничения [cм.: 4].
Очевидно, что стандартная точка зрения вызывает множество вопросов и выглядит достаточно сомнительной. Главными либеральными критиками доктрины ограничения считаются Кристофер Эберле, Филип Квинн, Джефри Стаут и Николас Вултер-сторфф, которые отстаивают принцип сознательного участия (conscientious engagement). Несмотря на то, что они разделяют принципы либеральной демократии, критика касается как фундаментальных оснований либерализма и теолого-политической проблемы, так и частных случаев использования доктрины религиозного ограничения. Критики выделяют несколько проблем относительно первого аргумента в пользу ограничения. Во-первых, они подвергают сомнению возможность религиозной войны в либеральных демократиях, так как в наше время не происходят такие вопиющие нарушения свободы вероисповедания, как, например, в Новое время. Далее, критики утверждают, что неясно, как доктрина религиозного ограничения сможет уменьшить вероятность религиозного конфликта (тем более вооруженного). В-третьих, в случае принятия принудительного закона, нарушающего свободу вероисповедания, нарушается сама доктрина ограничения. Наконец, критики отмечают, что некоторые религиозные взгляды могут принимать свободу вероисповедания и, тем самым, помогают избежать религиозного конфликта, нарушая, тем не менее, доктрину ограничения. Если говорить кратко, то либеральные критики считают данный аргумент лишенным смысла, так как в современных либеральных демократиях вооруженный конфликт на религиозной почве кажется маловероятным [см.: 2, p. 244].
Касательно аргумента от раскола, либеральные критики предлагают возражение, состоящее из трех частей. Во-первых, они полагают, что принятие доктрины ограничения может вызвать эквивалентную злость и разочарование среди граждан (как религиозных, так и светских), не поддерживающих доктрину. Далее, либеральные критики предполагают, что следование док- трине лишь слегка облегчит разочарование граждан, когда они столкнутся с религиозными аргументами в публичных политических дебатах, так как стандартный подход не запрещает законодательно поддерживать или критиковать принудительные законы, основываясь на религиозных представлениях, а также не запрещает публично выражать религиозные аргументы. Наконец, Эберле и Бейерлейн утверждают, что в либеральных демократиях как плюралистичных странах большинство законов будут иметь как светские, так и религиозные основания, которые на деле крайне сложно различить [см.: 2, p. 244].
Наиболее серьезную критику имеет третий аргумент в пользу доктрины ограничения. Основная проблема заключается в том, что данный аргумент, как и его критика, подрывают базовые либеральные ценности. Во-первых, Эберле отмечает, что остается неясным, каким образом граждане, желающие принять участие в обсуждении публичной политики, выражают неуважение к своим соотечественникам, если их убеждения основаны на религиозных взглядах. Во-вторых, не все люди (даже достаточно разумные) могут понять или признать, что принудительный закон морально легитимен (то есть не выражает к ним неуважения как к личностям). Следовательно, для принятия морально легитимного принудительного закона может быть использовано адекватное религиозное обоснование, чтобы убедить граждан. Другие проблемы кроются в самих либеральных ценностях, как например, неотъемлемые человеческие права (или естественное право). Согласно Николасу Вултерсторффу, попытка исключительно светского обоснования этих ценностей обречена на провал [см.: 7]. Очевидно, аргумент от уважения оказывается таким же проблематичным, как и его критика.
Как отмечает Эберле, либеральные критики не придерживаются политики «все возможно» (anything goes) относительно государственного принуждения: они считают, что граждане должны придерживаться некоторых ограничений касательно принятия принудительных законов. В первую очередь, либеральные критики предполагают, что граждане должны придерживаться таких либеральных ценностей, как свобода слова и вероисповедания, равенство перед законом и частная собственность. Строго говоря, граждане должны поддерживать только те принудительные законы, которые, по их мнению, улучшат общее благо и будут совместимы с требованиями справедливости. Это значит, что граждане могут поддерживать принудительные законы, даже если они не имеют достаточного светского обоснования. Вторым ограничением является способ эпистемического обоснования политических взглядов граждан. Это означает, что граждане должны иметь возможность определить степень блага и справедливости того закона, который они поддерживают. Либеральные критики считают, что это не исключает возможность граждан использовать религиозное обоснование для поддержки принудительного закона. Главное, чтобы религиозные убеждения граждан не были иррациональными, ограниченными и бескомпромиссными. Последнее условие заключается в том, чтобы любой человек, светский или религиозный, имел убедительную причину поддержать принудительный закон. Любые нормативные ограничения, связанные с принятием гражданами того или иного политического решения, должны быть одинаково применимы к религиозным и светским основаниям.
Учитывая условия, выдвинутые Эберле и другими сторонниками принципа сознательного участия, можно сделать вывод, что идея равенства объяснительной роли религиозных и светских аргументов совместима с доктриной религиозного ограничения, хотя доктрина предполагает некоторую асимметрию в пользу светских убеждений. Таким образом, мы видим, что теолого-политическая проблема, или проблема религии в публичной сфере, далека от конечного решения и до сих пор является актуальной и представляет собой предмет оживленной дискуссии. С одной стороны, мы видим сторонников стандартного взгляда, предлагающих аргументы за ограничение религиозной аргументации в публичной сфере, общие взгляды которых принято называть доктриной религиозного ограничения. С другой стороны, мы видим их либеральных критиков, которые утверждают, что аргументы в пользу ограничения религиозного обоснования несостоятельны, противоречивы или просто недостаточны, и отстаивают равенство светского и религиозного обоснования. Тем не менее, сторонники принципа сознательно- го участия утверждают, что их позиция совместима с доктриной религиозного ограничения при определенных условиях. В любом случае, альтернатива принципа сознательного участия кажется не менее сомнительной, чем стандартный подход. Это приводит к заключению, что данная дискуссия поднимает ряд других не менее важных вопросов, как например, вопрос о применимости доктрины к государственным служащим и религиозным деятелям и вопрос сопоставления доктрины религиозного ограничения с ее либеральной критикой и другими концепциями (как нео-традиционализм и публичный разум).
Список литературы Либеральная критика доктрины религиозного ограничения
- Audi R. Religious Commitment and Secular Reason. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. 272 p.
- Beyerlein K., Eberle Ch.J. Who Violates The Principles of Political Liberalism?: Religion, Restraint, and the Decision to Reject Same-Sex Marriage // Politics and Religion. 2014. Vol. 7. P. 240-264.
- Boettcher J. Respect, Recognition, and Public Reason // Social Theory and Practice. 2007. Vol. 33. P. 223-249.
- Eberle Ch.J., Cuneo T. T. Religion and Political Theory // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/entries/religion-politics/ (accessed: 20.09.2017).
- Eberle Ch.J. Religion, Pacifism and the Doctrine of Restraint // Journal of Religious Ethics. 2006. Vol. 34. P. 203-224.
- Eberle Ch.J. Religious Conviction in Liberal Politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. 416 p.
- Wolterstorff N. Justice: Rights and Wrongs. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. 416 p.