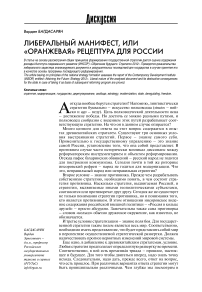Либеральный манифест, или "оранжевая" рецептура для России
Автор: Багдасарян Вардан Эрнестович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Дискуссия
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе рассмотрения общих принципов формирования государственной стратегии дается оценка содержания доклада Института современного развития (ИНСОР) «Обретение будущего: Стратегия 2012». Приводятся доказательства либерального характера анализируемого документа и его разрушительных последствий для государства в случае принятия его в качестве основы программы последующего реформирования.
Стратегия, модернизация, государство, дерегулирование, свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/170165641
IDR: 170165641
Текст научной статьи Либеральный манифест, или "оранжевая" рецептура для России
А откуда вообще берутся стратегии? Напомню, лингвистически стратегия буквально – искусство полководца ( stratos – войско и ago – веду). Цель полководческой деятельности ясна – достижение победы. Но достичь ее можно разными путями, и полководец сообразно с видением этих путей разрабатывает соответствующую стратегию. На что он в данном случае опирается?
Много ценного для ответа на этот вопрос содержится в опытах древнекитайских стратагем. Существуют три основных условия выстраивания стратегий. Первое – знание самого себя. Применительно к государственному управлению – это знание самой России, установление того, что она собой представляет. В противном случае часто исторически возникал диссонанс между реформаторским инструментарием и объектом реформирования. Отсюда пафос бухаринских обвинений – русский народ не годится для построения коммунизма. Сегодня почти в той же риторике инсоровский рефрен – народ не годится для модернизации. Что это, неправильный народ или неправильная стратегия?
Второе условие – знание противника. Прежде чем разрабатывать собственную стратегию, необходимо понять, в чем состоит стратегия противника. Насколько стратегия, выдвигаемая Россией, и стратегии, выдвигаемые иными геополитическими субъектами, соотносятся или противоречат друг другу. Сегодня же не существует не только понимания стратегии противника, но и понимания того, кто является противником. В этом отношении инсоровское видение содержания российской внешней политики – «Россия в кольце друзей» – просто абсурдно. Замечательна также сама проговорка – словом «кольцо» обычно дружеское окружение, как известно, не обозначается.
И третье условие стратегизации – знание поля боя. Для государственной стратегии таким полем является весь мир. Соответственно, необходимо иметь представление, что будет представлять собой мир в перспективе осуществляемой стратегической развертки. Должен наличествовать прогноз вероятных изменений мировой системы.
Еще одно, в добавление к древнекитайским стратагемам, условие. Любая стратегия предполагает определенную развертку во времени. Соответственно, в ней есть временная триада — прошлое, настоящее и будущее. Для того чтобы двигаться вперед, надо знать точку исхода. Следовательно, надо дать, прежде всего, ответ на вопрос, что есть прошлое. При различных вариантах ответа стратегии могут быть принципиально различными. Чем глубже мы посмотрим в историю, тем стратегичнее будет наш взгляд в будущее.
Стратегия задает переход от одного качественного состояния к другому. Это предполагает определенную историковременную развертку. Соответственно, нужно достичь понимания, куда и в каком направлении движется Россия.
Вопрос этот тесно увязан с методологией осмысления мирового исторического развития в целом. В определенном смысле можно даже говорить об историософской парадигме стратегического целеполагания. Сообразно с принятием той или иной версии мегаистории типологизируются три основные модели стратегизации:
-
1) существует единый для всего человечества, универсальный путь экономического развития;
-
2) существует два или несколько путей экономического развития (популярностью одно время пользовалась дихотомия экономик либерального и тоталитарного типов);
-
3) существует множество вариантов организации национальных экономик, соотносимых с их цивилизационной идентичностью.
В соответствии с такой классификацией государственная стратегия предстает:
-
• при первой модели – как подражание и управленческая экстраполяция;
-
• при второй – как выбор альтернатив;
-
• при третьей – как самоидентификация.
Сообразно с взглядом о едином универсальном для всех пути развития человечества действует интенция – смотри на успешные страны и делай так же, как они. Но по этой модели Россия, стартуя позже других, обречена на позицию аутсайдера. Это – валлерстайновская система. Центропериферийные роли в ней фактически неизменны. Но именно в этой парадигме и мыслится инсоровская Стратегия 2012. Поставь в ней на место России любую другую страну мира, и принципиального различия мы не обнаружим.
Второй вариант исторического моделирования – выбор альтернатив – был актуален в период бинарного противостояния «холодной войны» (капитализм – социализм). Но для реализации этой модели нужен, как минимум, альтернативный центр силы. Сейчас такой геополитической альтернативы нет. Соответственно, и выбирать России не из чего.
Остается третий вариант исторического моделирования, определяемый парадигмой цивилизационного подхода. Не следование чьему-то успешному опыту и не выбор внешнего центра притяжения, а самоидентификация в качестве особой цивилизации. Сам факт тысячелетней истории России, государственная система которой, имея принципиальные отличия от западной, позволила обеспечить ей статус мировой державы, противостоять полчищам внешних агрессоров, осуществить хозяйственное освоение крупнейшего территориального пространства в мире, говорит об уместности обращения к цивилизационным основам конструирования современной российской экономической политики. Но именно эти аспекты в дискурсе инсоровской стратегизации совершенно отсутствуют. Понимания того обстоятельства, что рецептура развития для разных цивилизаций различна, не существует. Ни о специфике России, ни о российской цивилизационной идентичности, ни о ее историко-культурных тысячелетних накоплениях ничего в предлагаемом докладе не говорится. А между тем, успешность бурно развивающихся сегодня стран Востока связана, прежде всего, с их национальной традицией, цивилизационно-ценностными человеческими ресурсами, менталитетом.
Опубликованный документ, если называть вещи своими именами, представляет собой попытку выдвижения нового либерального манифеста. То, что его научнопрофессиональные свойства оказались достаточно низкого качества, – другой вопрос (тем хуже для либерализма).
Ранее российские либералы, прикрываясь призывами к деидеологизации, несколько чуждались слова «идеология». В представленном докладе оно наконец-то было произнесено. И это само по себе симптоматично. Маски сорваны. Деидеологизированному современному российскому государству фактически открыто противостоит номинированный идеологический проект.
Этот проект назван стратегией модернизации. Кто, казалось бы, против того, что страна должна модернизироваться, т.е. в буквальном смысле слова осовремениваться. Призывы к модернизации и звучат сегодня чаще всего в качестве лозунга: «За все хорошее, против всего плохого». Но попытаемся все же разобраться, какова мировоззренческая парадигма используемого понятия.
Концепт модернизации был сформулирован в цельном виде еще в конце 50-х гг. прошлого века. Наиболее ранняя его номинация обнаруживается в работе Д. Лернера «Уход от традиционного общества. Модернизация Среднего Востока». Далее, уже в 60-е гг., эта теория получила достаточно широкое распространение. Теория модернизации постулирует существование двух стадий в развитии глобальных социальных систем – это традиционное общество и общество современного типа. Осуществляемый исторически переход от одной стадии к другой и составляет содержание модернизационного процесса.
На практике это означает вполне конкретные вещи. Сегодня, к примеру, достаточно широкое распространение в демографии имеет понятие демографической модернизации. Оно подразумевает неизбежность процесса уничтожения традиционного института большой семьи, состоящей из трех поколений (вводится специальный термин «модернизация семьи»), отказ от установки на многодетность и т.п. Социальная модернизация предполагает, в свою очередь, уничтожение архаических социальных структур и, в частности, крестьянского мира с его традиционным укладом, не вписывающимся в образ модернизированного общества. Модернизация образования сводится к отказу от классической модели университета и переходу к Болонской системе. Модернизация российской культуры есть, по сути, ее американизация, замена русской культурной традиции конвейером культурно-досуговой продукции голливудского типа.
Модернизация понимается, таким образом, прежде всего, как преодоление традиции. Вариативность цивилизаций рассматривается в данном концепте как признак домодернового состояния. При переходе к обществу современного типа традиция демонтируется, а тем самым уничтожается и вариативность.
Нужна ли России сегодня модернизация в этих ее целевых ориентирах? Сомнительно. Скорее, России нужна ретрадиционализация – восстановление национальных традиций и цивилизационно-ценностных накоплений.
То, что авторы доклада понимают модернизацию именно так, как описано выше, подтверждается высказыванием господина И.Ю. Юргенса на страницах «Российской газеты»: «Эта задача делает беспочвенным убеждение некоторых политических сил в том, что сегодня возможно осуществить “волевую” модернизацию по типу петровской или сталинской силами государственного аппарата, руководя процессом “вручную”. Да, “твердая рука” способна сделать из аграрной страны индустриальную. Но абсурдны попытки раскрепостить творческий потенциал общества путем его закрепощения. Движущей силой модернизации в нынешнее время могут и должны быть те широчайшие слои нашего общества, которые в ней заинтересованы, те десятки миллионов людей, благосостояние и самореализацию которых способна обеспечить только обновленная Россия».
Итак, России предлагается очередное «раскрепощение». Выдвигается старый концепт, который уже многократно использовался при дезавуировании российской государственности. От чего собираются раскрепостить современного российского человека? Следуя логике доклада, во-первых, от государства, а во-вторых, от традиции. То есть, по сути, реализуется тот самый проект, проявления которого мы можем обнаружить и сто, и двести лет назад, – развал России через разрушение ее цивилизационной идентичности.
Главным препятствием для развития России ИНСОР называет институт государства. Минимизация его роли – основная тема доклада. Государство без обиняков объявляется стопором модернизации. «Общий курс, – на удивление откровенно заявляют авторы доклада, – стратегия дерегулирования. Экономику и повседневную жизнь граждан надо освободить от назойливого, часто ненужного администрирования. Функции власти должны быть минимальными, но выполняемыми эффективно и неукоснительно». Непонятно, почему этот пропитанный нафталином концепт инсоровцы преподносят как нечто принципиально новое. Никакой принципиальной новизны здесь нет. Борьба с российским государством как главным стопором общественного развития – общая платформа всех модификаций западничества. Стратегия дерегулирования – именно этот концепт был лозунгом горбачевской перестройки и стоил в итоге распада СССР. Сейчас предлагается, по сути, сценарий «Перестройка-2».
Дерегулирование, утверждается, как аксиома, в докладе ИНСОРа, сегодня есть не только проявление гуманистического выбора, но и элементарное требование эффективности. При этом – постоянная отсылка к мировому опыту. Но мировой-то опыт свидетельствует как раз об обратном! Дерегуляция и не гуманистична, и не эффективна. Именно как реакция на «волчьи законы» либеральной системы исторически возникает модель социального государства. При рассмотрении наиболее динамичных национальных экономик на среднесрочных и долгосрочных отрезках исторического времени для всех них обнаруживается тренд возрастания роли государства. Возрастание темпов экономического роста прямо соотносится с расширением государственного участия в экономике. Наименьший уровень государственных расходов к ВВП имеется в странах «черной Африки», наибольший – в странах Европы. Запад, так любимый инсоровцами, развивается в направлении, прямо противоположном тому, которое обозначается как рецептура для России. За редким исключением, лишь подтверждающим правило, западные высокоразвитые страны даже на краткосрочном интервале измерения обнаруживают устойчивое увеличение доли государственных расходов в валовом внутреннем продукте. Еще более очевидным представляется этатистский вектор развития западных стран в долгосрочной перспективе. Доминирующее положение экономики Запада в современном мире формировалось, таким образом, на пути усиления масштабов государственного фактора.
Другим препятствием для модернизации инсоровского типа, помимо государства, оказывается народ. Характерно, что слово «русский» инсоровцами принципиально не выговаривается. В разделе под названием «Российский народ: обретение себя», казалось бы, речь должна идти о цивилизационной идентичности России. Однако, удивительным образом, все с точностью до наоборот. Главная тема – необходимость привлечения иммигрантов. Инсоровская аксиома на этот счет звучит следующим образом: «Без привлечения как квалифицированных, так и неквалифицированных мигрантов (и временных, и постоянных), рынок труда России не сможет эффективно функционировать». Абсурд! Чтобы российскому народу обрести себя, оказывается, надо больше ввозить в страну иностранцев.
Итак, предлагается широкая модернизация. Но есть нечто, в отношении чего ИНСОР устанавливает табу на модернизационные изменения. Это – Конституция. Еще бы! Принятая в условиях 1993 г., с запретом на наличие государственной идеологии, с множеством государств и государственных языков внутри, казалось бы, единого государства, она – важнейшая опора в реализации государственной политики. Но Конституция – это не религиозный сакрализованный текст Божественного откровения. В отличие от последнего, конституционное законодательство выступает не как цель, а как средство, инструментарий реализации соответствующих ценностных установок. Поэтому догматизация текста Конституции снижает ее действенные потенциалы. Несоответствие вызовам и запросам современности делает закон юридически бессмысленным. Достаточно обратиться к мировому опыту, включая опыт западных государств, чтобы убедиться, что конституционное реформирование является событием тривиальным. Никто ведь не будет говорить о правовом нигилизме испанцев на том основании, что Конституция Испании менялась 11 раз, не считая поправок, вносимых в каждую из них. Для Франции ныне действующая Конституция и вовсе 15-я по счету. И что с того? Осуществляя законодательную модернизацию, государства решают через нее возникшие управленческие задачи, вырабатывает адаптивную модель соотнесения основных законов с новой изменившейся исторической реальностью.
Едва ли не все в позициях ИНСОРа объясняется указанием предлагаемых для России внешнеполитических ориентиров. Такие ориентиры называются даже более жестко – «внешние якоря» (очень образная проговорка). К таким якорям относятся ВТО, ОЭСР, НАТО, ЕС. Дальнейшие комментарии излишни. Если называть вещи своими именами, предложено де-факто легитимизировать в России режим внешнего западного управления. А ключевая идея доклада, как и в аналогичных манифестациях российского западничества, – это идея свободы.