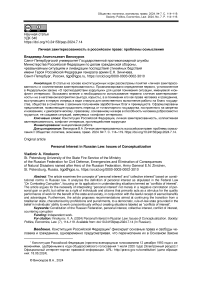Личная заинтересованность в российском праве: проблемы осмысления
Автор: Винокуров Владимир Анатольевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе конституционных норм рассмотрены понятия «личная заинтересованность» и «коллективная заинтересованность». Проанализировано определение первого, установленное в Федеральном законе «О противодействии коррупции» для целей понимания ситуации, именуемой «конфликт интересов». Высказано мнение о необходимости использования термина «личная заинтересованность» не в негативном восприятии (выгода, корысть), а в понимании его как права человека и гражданина, выступающего в первую очередь в виде стимула для качественного выполнения работы на благо государства, общества в сочетании с законным получением заработанных благ и преимуществ. Сформулированы предложения, позволяющие продолжить переход от тоталитарного государства, построенного на запретах и наказаниях, к демократическому, правовому, основанному на вере в способность человека добросовестно трудиться, не создавая ситуаций, именуемых «конфликт интересов».
Конституция российской федерации, личная заинтересованность, коллективная заинтересованность, конфликт интересов, противодействие коррупции
Короткий адрес: https://sciup.org/149145519
IDR: 149145519 | УДК: 340 | DOI: 10.24158/pep.2024.7.14
Текст научной статьи Личная заинтересованность в российском праве: проблемы осмысления
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева, Санкт-Петербург, Россия, ,
of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters named after Hero of the Russian Federation, Army General E.N. Zinichev, St. Petersburg, Russia, ,
Введение. Конституция Российской Федерации1 фиксирует основные права и свободы человека и гражданина, одновременно предусматривая, что перечисление их в Основном Законе государства «не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» (ч. 1 ст. 55).
Исходя из процитированной нормы, право человека на заинтересованность в чем-либо также должно относиться к общепризнанным правам и свободам. Однако следует обратить внимание, что в современных правовых актах термин «заинтересованность» используется в большинстве случаев в сочетании со словом «личная», реже – со словом «коллективная».
С филологической точки зрения «заинтересованность» разъясняется как «заинтересованное отношение к чему-либо»1, то есть «обнаруживающее, заключающее в себе или имеющее для кого-нибудь интерес»2. Интерес же, в значимых для нас значениях, растолковывается как «особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять», а также как «выгода, ко-рысть»3. Слова «личная» и «коллективная» относятся соответственно к личности, конкретному лицу, человеку и к группе лиц, объединенных общей работой, учебой, общими интересами4.
Дальнейший анализ законодательных норм базируется на указанных толкованиях терминов, поскольку Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации»5 предписывается соблюдать нормы современного русского литературного языка, под которыми понимаются правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках (ч. 3 ст. 1).
Обсуждение . Коллективная заинтересованность присутствовала в советских документах, в частности, при применении бригадной системы оплаты труда, когда итог зависел от того, насколько каждый член коллектива был настроен получить максимальный результат, то есть хорошо заработать. Например, в постановлении Совета Министров СССР от 15 октября 1987 г. № 1120 «О государственном плане экономического и социального развития СССР на 1988 год» государственным органам предписывалось «всемерно развивать прогрессивные формы организации и стимулирования труда, способствующие повышению личной и коллективной заинтересованности трудящихся в росте эффективности производства» (пп. «е» п. 3)6.
В современном российском законодательстве словосочетание «коллективная заинтересованность» не используется, но оно встречается в документах иного характера. Так, в рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах, направленных информационным письмом Центрального банка Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № ИН-06-28/41 для применения, сказано, что «важна коллективная заинтересованность всех членов совета директоров» в проведении самооценки, для того чтобы эта самооценка «стала действенным инструментом выявления зон внимания и повышения эффективности работы совета директоров» (п. 1.3)7. Данный тезис, на наш взгляд, следует распространить на деятельность всех коллегиальных органов, но учитывая, что коллективная заинтересованность складывается из личных заинтересованностей каждого члена коллегиального органа в решении поставленных перед этим органом и/или руководимой им организацией задач. И если она отсутствует, то и коллегиальная заинтересованность в этом случае будет весьма условной, можно сказать, дефектной. Реальное единодушие всех членов коллектива встречается весьма редко. Несмотря на философскую мысль Платона о том, что «единодушие граждан, по общему мнению, есть величайшее благо для государства…»8, процитируем часто повторяемое высказывание И.В. Сталина: «Полное единодушие бывает только на кладбище»9. Поэтому, вероятно, коллегиальная заинтересованность как правовая категория перестала использоваться в законодательстве Российской Федерации. Сформированное за последние десять лет, оно рассматривает личную заинтересованность лишь в контексте пояснения к определению конфликта интересов, то есть с оттенком выгоды, причем преимущественно в уголовно-правовом аспекте.
Под конфликтом интересов в Федеральном законе «О противодействии коррупции»10 понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) определенного в законе лица, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей, осуществление полномочий (ч. 1 ст. 10). При этом под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) соответствующим лицом, его родственниками (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), иными гражданами или организациями, с которыми соответствующее лицо или его родственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ч. 2 ст. 10).
В первоначальной редакции, то есть до внесения в 2015 г. в названный документ изменений, конфликт интересов рассматривался в рамках государственной и муниципальной службы и понимался как ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего «влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства», при этом под личной заинтересованностью подразумевалась «возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц».
Проблемы измененного определения, объясняющего конфликт интересов на основе личной заинтересованности, ученые практически сразу стали отмечать в своих работах. Анализируя новые формулировки Федерального закона «О противодействии коррупции», А.Д. Ильяков обращает внимание на то, что «в совокупности со значением понятия “коррупция” … это не позволяет прямо, а не косвенно расценивать возможность получения каких-либо выгод (преимуществ), не имеющих прямого имущественного выражения, в качестве личной заинтересованности» (Ильяков, 2016: 33).
О сложностях применения рассматриваемых норм в отношении военнослужащих пишет и И.В. Бараненкова, предлагая уточнить введенную формулировку в части личной заинтересованности (Бараненкова, 2015: 17).
Несколько позже М.В. Пресняков посчитал, что осуществленное в 2015 г. «изменение формулировки конфликта интересов является стратегически неправильным», справедливо пояснив, что именно «упоминание того, что конфликт интересов может привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, “санкционирует” возможность введения ограничений некоторых конституционных прав, необходимых для его урегулирования», что позволительно осуществлять только федеральным законом (Пресняков, 2022: 25).
Личная заинтересованность, которая может явиться причиной привлечения к административной ответственности, предусмотрена только при осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности (ст. 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-рушениях1), причем данная дефиниция стала работать с ноября 2013 г. (ст. 39 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2). В других отраслях экономики, иных видах деятельности личная заинтересованность рассматривается исключительно как основание для уголовного преследования. Примером послужит ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации3 (ст. 1451, 170, 181, 285, 2854, 286, 292, 299, 325).
Рассматривая проблемы установления личной заинтересованности как мотива совершения преступления, С.А. Ступина приходит к интересному выводу о целесообразности и обоснованности исключения из составов преступлений мотива личной заинтересованности и личного интереса как обязательного признака субъективной стороны (Ступина, 2019: 305).
Как видим, право на личную заинтересованность в законодательстве современной России не предусматривается, поскольку сама личная заинтересованность трактуется, причем преимущественно в судебной практике, исключительно как корысть, то есть то, что вредит обществу и государству.
По нашему мнению, личную заинтересованность следует рассматривать как двигатель любой деятельности и даже как стимул жизни вообще и существования человека.
О многообразии личного интереса как синонима личной заинтересованности писал С.А. Гирин, ссылаясь на социологические исследования (Гирин, 2016: 156–157), в рамках которых понятие «интерес» (как основа заинтересованности) трактуется как «реальная причина социальных действий, лежащих в основе непосредственных побуждений (мотивов, идей и т.д.) участвующих в них индивидов, социальных и других групп, общественных классов, государств»1.
Термины «интерес» и «заинтересованность» исследуются и с точки зрения права. Так, А.Ю. Романов полагает, что «понятие заинтересованности возможно определить в качестве такого состояния, при котором субъект совершает или уже совершил юридически значимые действия, целью которых является реализация им своих потребностей», уточняя далее, что «заинтересованность – конкретная жизненная ситуация, при которой субъект права реализует свою правоспособность в целях удовлетворения потребностей» (Романов, 2016: 165).
Повторение понятия «личная заинтересованность» как возможной причины конфликта интересов во всех федеральных законах, которыми регулируется правовое положение лиц, замещающих государственные должности, а также государственных служащих, привело к тому, что первоначальный смысл личной заинтересованности как одной из главных причин для качественного выполнения работы, осуществления полезных действий для субъекта, его семьи, государства и общества, потерялся, исчез из законодательных норм.
Всевозможными способами, к сожалению, не приносящими реального результата, государство борется с негативными проявлениями, внедряя в законодательство сложные, не до конца ясные конструкции, которые не только не помогают, но часто запутывают лиц, вынужденных участвовать в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
Проанализируем отдельные положения формулировки «личная заинтересованность», зафиксированной в Федеральном законе «О противодействии коррупции»2. Во-первых, как записано в указанном акте, это возможность, то есть гипотетическая допустимость, вероятность получения каких-либо выгод, что в результате заранее подвергает сомнению всю деятельность должностного лица, рассматривая ее под корыстным углом. Во-вторых, предусмотрено, что выгоды может получить любое иное лицо, с которым и субъект личной заинтересованности, и его родственники связаны какими-либо «близкими отношениями». При этом под последними можно понимать весь спектр взаимодействий: от любви и дружбы до приятельства и знакомства. Данная формулировка уже приводит к абсурдным ситуациям, когда, скажем, судья, получив исковые требования, например, от знакомого продавца магазина, в котором регулярно приобретает продукты, должен отказаться от рассмотрения дела, поскольку этот бытовой контакт можно расценить как личную заинтересованность судьи в том решении, которое он примет! В-третьих, никак не оговорен вопрос о личной заинтересованности, которая не привязана к каким-либо материальным благам и преимуществам, а будет зависеть от настроения, симпатии или неприязни, что, к сожалению, возможно.
Поэтому вопрос о надлежащем исполнении лицами, замещающими государственные должности, а также должности государственной службы всех видов, не решается и не может решаться нагромождением запретов, пустых требований (на которые тратится время) и введением многочисленных проверок, заканчивающихся очередной мерой наказания.
Добросовестное исполнение своих обязанностей начинается с воспитания уважения к родителям, семье, обществу, государству и закону. Безупречную репутацию, положенную в основу назначения на должности в государстве (Винокуров, 2020), следует рассматривать как подтверждение того, что соответствующее должностное лицо не допустит возникновения ситуации, именуемой конфликтом интересов. При этом закон должен быть всем понятен, прост в исполнении, что не потребует для контроля громоздких правил и многочисленных проверяющих. Данное требование исполнимо, если качественно прорабатывать законопроекты, а их число не будет превышать разумного количества, то есть примерно 10–12 в год (без учета законов о бюджете, о ратификации или денонсации договоров и о внесении изменений, связанных с существенными изменениями в жизни людей) (Винокуров, 2021).
На наш взгляд, невозможно добиться честности по отношению к государству и обществу, постоянно устанавливая законодательно всё новые и новые ограничения, требования, вводя наказания, а также увеличивая число законодательных актов, внося в них огромное количество изменений. Ответная реакция населения известна: люди ищут и находят лазейки в законах, вырабатывают схемы, которые не охватить никакими правовыми актами, при необходимости вовлекают большее число участников противоправных действий или увеличивают сумму материальной «личной заинтересованности» в целях «стимулирования» должностных лиц в части осуществления ими действий, предусмотренных законодательством.
Заключение . По нашему мнению, личная заинтересованность должна рассматриваться как стимул к решению государственных задач на благо общества, а не как корыстная составляющая конфликта интересов.
Учитывая денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 г.1, отсутствие в российском уголовном законодательстве и законодательстве об административных правонарушениях составов преступлений или правонарушений, содержащих термин «коррупция», и в целях экономии бюджетных средств, упрощения системы контроля за деятельностью лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной службы всех видов, предлагаем признать утратившим силу Федеральный закон «О противодействии коррупции» и изданные на его основе нормативные правовые акты.
Вопросы, связанные с противодействием коррупции, должны быть зафиксированы в положениях о тех государственных органах, которым поручено осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц. При этом право на личную заинтересованность необходимо рассматривать как неотъемлемое право человека и гражданина в Российской Федерации, ограничивая его лишь в части, приводящей к нанесению ущерба государству, обществу или человеку в угоду собственной выгоде.
Переход от политики тотального недоверия человеку и гражданину, которая много лет зиждется на запретах, ограничениях и поддерживается наказанием, к политике доверия, веры в способность человека честно трудиться на благо государства и общества, не затрачивая время на постоянные оправдания – труден для восприятия, сложен с точки зрения правовой регламентации, но необходим, если мы говорим о демократическом и правовом государстве – Российской Федерации.
Список литературы Личная заинтересованность в российском праве: проблемы осмысления
- Бараненкова И.В. Конфликт интересов: новый подход законодателя и меры по предотвращению и урегулированию в воинских частях // Право в Вооруженных Силах - военно-правовое обозрение. 2015. № 12 (222). С. 14-20.
- Винокуров В.А. Об отдельных требованиях к кандидатам на должности государства как возможность реализации права гражданина на управление государством // Государственная власть и местное самоуправление. 2020. № 6. С. 26-30. DOI: 10.18572/1813-1247-2020-6-26-30
- Винокуров В.А. Проблемы чрезмерного законотворчества в современной России // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 174-180. DOI: 10.34216/1998-0817-2021-27-4-174-180
- Гирин С.А. О соотношении понятий "интерес" и "личная заинтересованность" в конфликте интересов на государственной гражданской службе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2016. № 10 (231). С. 155-160.
- Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в системе государственного управления // Современное право. 2016. № 4. С. 32-36.
- Пресняков М.В. "Частные" механизмы противодействия коррупции: оптимизация и пределы экспансии антикоррупционных практик // Административное право и процесс. 2022. № 9. С. 20-27. DOI: 10.18572/2071-1166-2022-9-20-27
- Романов А.Ю. Заинтересованность как правовая категория // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20, № 1 (91). С. 164-168.
- Ступина С.А. Личная заинтересованность и личный интерес как мотивы совершения преступления: некоторые проблемы установления // Эпоха науки. 2019. № 20. С. 302-308. DOI: 10.24411/2409-3203-2019-12056