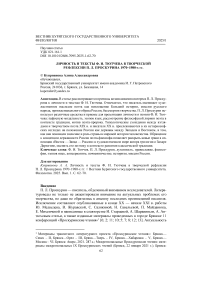Личность и тексты Ф. И. Тютчева в творческой рефлексии П. Л. Проскурина 1970–1980-х гг.
Автор: Куприянова А.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины возникновения интереса П. Л. Проскурина к личности и текстам Ф. И. Тютчева. Отмечается, что писатель оценивает художественное наследие поэта как воплощение Большой истории, миссии русского народа, провиденциального образа России, бессмертия творчества. П. Л. Проскурин использует различные средства и приемы для презентации личности и поэзии Ф. И. Тютчева: пафосную модальность, эзопов язык, рассмотрение философской лирики поэта в контексте традиции, мотив поэта-пророка. Типологические схождения между взглядами и творчеством поэта ХРХ в. и писателя ХХ в. прослеживаются в их историософских взглядах на положение России как державы между Западом и Востоком, в том, как они понимали значение и роль страны в мировой истории человечества. Обращение к концепции державности России поэта-философа позволяет раскрыть новые грани в оппозиции «Восток - Запад - Россия» в художественном мире автора трилогии о Захаре Дерюгине, оценить его поэтику в контексте развития классической традиции.
Ф. и. тютчев, п. л. проскурин, духовность, православие, философия, эзопов язык, консерватизм, почвенничество, историзм, миссия России
Короткий адрес: https://sciup.org/148331034
IDR: 148331034 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2025-1-62-70
Текст научной статьи Личность и тексты Ф. И. Тютчева в творческой рефлексии П. Л. Проскурина 1970–1980-х гг.
П. Л. Проскурин — писатель, обделенный вниманием исследователей. Литературоведы не только не акцентировали внимание на актуальных проблемах его творчества, но даже не обратились к анализу последних произведений писателя. Исключение составляют опубликованные в конце ХХ — начале ХХI в. работы Ю. Медведева, В. Журавской, С. Салякиной, Н. Савельевой, П. Майданюка, Е. Михеичевой и написанные в соавторстве И. Старцевой, А. Шаравиным, А. Антюховым статьи, а также изданные материалы проведенных в городе Брянске 11 конференций «Проскуринские чтения»1 [6; 2; 11; 10; 5; 7; 8; 12; 13]. Актуальность работы связана с необходимостью осмыслить тютчевскую линию в свете творческой индивидуальности писателя-государственника, выявить типологическое сходство творческого наследия Ф. И. Тютчева и произведений П. Л. Проскурина, уточнить идеологические пересечения во взглядах писателей. Рефлексия личности и творчества Ф. Тютчева позволит проявить значение и роль классической традиции для П. Л. Проскурина как художественного вектора, определившего развитие его творческой индивидуальности. Цель статьи — выявление взаимодействия творчества П. Л. Проскурина с художественным миром Ф. Тютчева, определившим повторяющиеся ценностные основы идеологического и эстетического характера в произведениях художников слова XX века. В исследовании использован герменевтический метод для решения поставленной цели в рамках историко-теоретического контекста современного литературоведения. В статье впервые рассматриваются тютчевские традиции в творчестве П. Л. Проскурина, что позволяет сформулировать новые константы художественного мира писателя.
Результаты
В 2005 г., уже посмертно, вышла вторая часть мемуаров П. Проскурина «На грани веков». В своей итоговой прозе, написанной в форме дневника, писатель окончательно определился в своих литературных предпочтениях, подвел итог классической литературной традиции, определившей его творческое развитие. Отношение к Ф. И. Тютчеву в сравнении с началом 1980-х г. у П. Л. Проскурина не изменилось. Писатель только несколько сместил акцент с философской лирики русского поэта-философа на его историософскую лирику. Личность и творчество Ф. И. Тютчева оказались близки П. Л. Проскурину по многим параметрам. Немаловажную роль здесь сыграло то, что художники слова были земляками (в мемуарах П. Л. Проскурин называет поэта — «кровный сын брянской земли»; «Тютчев, разумеется, хорошо знал и безгранично любил историю родной земли, боготворил природу родного края, и эта любовь выплеснулась в его стихах с волшебной силой») [9, с. 219, 220]. Однако главное — это типологические сходства в творчестве Ф. И. Тютчева и П. Л. Проскурина, проявившиеся в обращении к государственности России, ее историческому прошлому, месту, которое занимает страна между Западом и Востоком, православию, историософии.
Литературоведами неоднократно ставился вопрос о близости творческих принципов П. Л. Проскурина к деревенской прозе. Книга мемуаров «На грани веков» расставила окончательные акценты в решении проблемы взаимодействия художественного наследия представителей почвенного направления русской литературы и автора романов «Судьба», «Имя твое», «Отречение».
Среди основных координат художественного мира П. Л. Проскурина — обращение к консерватизму и неопочвенничеству как важным параметрам, определившим мировоззренческие основы русского крестьянства. А. Большакова в статье «Почвенничество и символический реализм В. П. Астафьева и В. Г. Распутина»
определила особенности данных идеологических констант: «На самом деле суть подлинного консерватизма — меняться, оставаясь собой. В основе его — не ретроградство, а сохранение культурной национальной идентичности, базовых ценностей народа. Стратегия — эволюция вместо революции, традиция вместо разрушительной ломки устоев. В этом есть близость художественной идеологии деревенской прозы. Однако лишь близость, поскольку консерватизм как мировая идеология направлен на сохранение, скорее, внешней охранной системы общества, государства, а, к примеру, почвенничество как феномен сугубо русский — глубинного самосознания…» [1, с. 307]. Под термином «неопочвенничество» исследователи понимают «верность крестьянству и традиционным ценностям народной жизни, традициям русской словесности» [3, с. 22].
Обращение Ф. И. Тютчева к идеологическим ценностям консерватизма и почвенничества в качестве духовного оплота русского общества и скрепляющей силы русского народа во многом оказалось доминантой и для П. Л. Проскурина.
В книге «Порог любви» (опубликован в 1986, по комментариям Л. Р. Проскуриной «вышел в конце 70-х») одно из первых упоминаний о Ф. И. Тютчеве определяет его место в русской литературе и жизни. П. Л. Проскурин вписывает поэта-философа в личностную выстраиваемую и осмысляемую им Большую историю России («…в этом же движении народа к духовным вершинам, всегда основывающемся на незыблемом историческом монолите своей культуры, и Сергей Есенин, и Александр Блок на наших глазах легко и как бы безо всяких видимых усилий (время приспело!) перешагнули из одной традиции в другую и стали вслед за Пушкиным, Лермонтовым и Тютчевым в ряд величин самых необходимых, организующих само будущее…») [9, с. 116–117]. Для писателя Ф. И. Тютчев — воплощение русской литературной традиции, проявление русского менталитета, необходимая величина русской культуры и творческая энергия, организующая будущее. С этой точки отсчета и начинаются рассуждения П. Л. Проскурина об авторе стихотворения-афоризма «Умом — Россию не понять» [14, т. 2, с. 165].
Свое постижение лирики Ф. И. Тютчева писатель начинает с осознания и осмысления ее духовной мощи. «Одухотворенная красота творчества» «выбаюки-вается тысячелетиями», она следствие «теплой тьмы времен». Личность Ф. И. Тютчева, по П. Л. Проскурину, «ретранслятор» энергии из прошлого в будущее. Фундамент философской лирики поэта — ощущение прочности истории, ратная сила предков и «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», по-пушкински, а, по Проскурину, «земля с могилами предков»: «…я открыл какую-то неизвестную мне досель красоту родной земли, удивительную цельность народного характера… очувствовал, как человеку необходима одухотворенная красота творчества и как он стремится понять тысячелетнюю землю, породившую его, давшую ему прочность истории, ратную силу предков, неповторимую духовную мощь поэзии Тютчева, вставшей в один ряд с творениями лучших достижений человеческого гения, и я понял, что красота жизни и красота духовных устремлений человека выбаюкивались тысячелетиями; теплая тьма времен тоже живет и непрерывно шлет свои волны в настоящее и будущее — так уж устроена жизнь, и этого никому не переменить. Земля без могил предков — чужая и непонятная земля, и недаром всякое чужеземное нашествие стремится прежде всего разрушить святыни памяти народа, стереть с лица земли кладбища, переименовать все, связанное с глубокой отечественной историей…» [9, с. 196–197]. У П. Л. Проскурина выработалось тютчевское видение пейзажа: за природным ландшафтом открывается скрытый, глубинный культурно-исторический ландшафт. Пейзажная зарисовка писателя ХХ в. по-тютчевски высвечивает национальную русскую ментальность в интимной теплоте и красоте патриотизма.
Следующая загадка поэта-философа для П. Л. Проскурина — постичь тайну бессмертия тютчевского творчества — в России будущего, читателях-потомках, литературе ХХ в. И разгадывает ее писатель через два гениальных стихотворения поэта — «Эти бедные селенья», «Нам не дано предугадать». П. Л. Проскурин использует прием контаминации (совмещения в художественном переложении-комментарии указанных выше лирических произведений): «Там, где раздражительный, мелочный увидит одну грязь, прозорливец тотчас заметит густое вкрапление чистого золота; где нетерпеливый от жалости к себе увидит впереди одну тьму, ищущий различит все больше разгорающийся во тьме путеводный огонек; он не станет с тайным удовлетворением искать признаков слабости, тем более пытаться возвести их в некий изначальный закон, и в награду ему откроется формула непрерывного возрождения и укрепления жизни, скрытая в самых потаенных недрах народа, и сердца его коснется, как сказал Тютчев, благодать» [9, с. 200]. Анализ П. Л. Проскурина выделяет в лирике поэта главное — поиски формулы непрерывного возрождения и укрепления жизни. Для прозаика ХХ в. это постижение народной тайны, скрытой от поверхностного взора, уподоблено мифологической загадке сфинкса. И ответ П. Л. Проскурин находит в исторически развивающейся героической мужественности русского народа. Писатель акцентирует важное для него четверостишие Ф. И. Тютчева («Не поймет и не заметит / Гордый взор иноплеменный, / Что сквозит и тайно светит / В наготе твоей смиренной») [14, т. 2, с. 71]. Строки поэта о «гордом взоре иноплеменном» интерпретируются П. Л. Проскуриным не только как оценивающий взгляд чужеземца на Россию, но и как мнение любого человека, кровно не связанного с родиной, со страной. Для автора «Порога любви» очевидно: только через любовь к Руси может открыться общее между испытавшим муки за человечество Христом и смиренным «Русским народом» (в тютчевском правописании с большой буквы). Крестная ноша крестьянства — вот «формула непрерывного возрождения и укрепления жизни» русской нации, по Ф. И. Тютчеву и П. Л. Проскурину, благословленная Царем Небесным. Реминисцентное слово поэта «благодать» из четверостишия «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется, — / И нам сочувствие дается, / Как нам дается благодать…» у автора мемуаров — атрибут сердечного состояния [14, т. 2, с. 197]. Интерпретируя смысл стихотворения Ф. И. Тютчева, писатель акцентирует православную идею: за долготерпение и смирение Русский народ обретет сочувственную Божественную благодать. Позиция П. Л. Проскурина несколько идеализирована в духе классического славянофильства, во второй книге мемуаров он подвергнет ее переосмыслению. Конечно, писатель излагает свое понимание стихотворений поэта, не обращаясь к концепции православия, однако мысль о русском христианстве подсказывается всем ходом его рассуждений, а умолчание, пробелы — это уже из области цензурных ограничений. К комментарию стихотворения «Эти бедные селенья» П. Л. Проскурин еще раз обратится в финальной части этой же одиннадцатой главы «Сотворение души, на земле Пересвета». Во- первых, писатель приводит полностью стихотворение Ф. И. Тютчева, чтобы читатели сразу уловили недоговоренности и тайнопись эзопова языка (в приведенном стихотворении советское написание противоречит тютчевскому: «Русского народа» / «русского народа»; «Царь Небесный» / «царь небесный») [9, с. 219–220]. Во-вторых, в треугольнике отношений «автор — цензор — читатель» происходит «расстановка экранов и маркеров», являющаяся «основой эзопова языка» [4, с. 12]. Маркером, отсылающим к присутствию шифра в тексте, является оговорка П. Л. Проскурина о праве Ф. И. Тютчева: «Он имел право говорить и о долготерпении русского народа, и о крестном пути родной земли» [9, с. 220]. Тайнопись более чем прозрачна: Ф. И. Тютчев имел такое право, а он, П. Л. Проскурин, такого право не имеет в силу понятных интеллигентному читателю причин, поэтому и христианские, православные мотивы поэта остаются без анализа. Их автор замещает прямой оценкой личности и творчества Ф. И. Тютчева: «один из самых удивительных и загадочных поэтов России» [9, с. 220]. Именуя поэта «духовным провидцем родной земли», который «прозревал в отдаленное будущее, еще более трудное и еще более великое, и передавал это в неповторимых пророческих поэтических образах», П. Л. Проскурин только частично раскрывает его ясновидение. Лирика Ф. И. Тютчева рассматривается П. Л. Проскуриным с позиции воплощения героического начала русской жизни, критерия, служившего для писателя качеством оценки литературы: «… связывая подчас в одном коротком стихотворении прошлое, настоящее и будущее навечно… знал, что героическое начало в истории неделимо и что именно оно организует душу и судьбу народа» [9, с. 220]. Автор мемуаров заявляет о единой душе и судьбе русского народа, организованной героическим началом, словно забыв о новой возникшей после 17-го года дефиниции — советский народ. Отметим, что образность эзопова языка, очевидно, одно из проявлений классической традиции русской литературы у писателей-государственников (А. Твардовский, П. Проскурин и др.) и тех, чью творческую индивидуальность можно обозначить как русский писатель советского периода литературы (Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др.) [15, с. 8; 16, с. 259]. Ф. И. Тютчев в своих трактатах и статьях неоднократно размышлял о великой миссии России как наследницы Византийской империи. Поэт в работах «Россия и Революция», «Римский вопрос» рассуждал о державности страны, трактуя имперскую государственность России как проявление всеединства и порядка, одержавшего победу над хаосом. П. Л. Проскурин во второй части мемуаров «Версты любви» фиксирует, что все правители после 17-го года (кроме И. Сталина) утратили «ген имперской государственности», что во многом в трактовке писателя и определило трагическую судьбу страны («Бесы, захватившие власть над Россией в семнадцатом году, и не могли принести ничего иного, кроме крови и ненависти, у них не было изначально гена имперской государственности, державности, что ощутимо присутствовало у того же последнего, неизлечимо больного наследника. Откуда у этих бесов, ослепленных идеей мировой революции, могло явиться чувство любви и сострадания, чувство ответственности за русский народ и русское государство? Они ведь не строили и не созидали, они пришли разрушать, и должно было пройти определенное время, прежде чем появился Сталин, чтобы разрушенное перелилось в созидание» [9, с. 434]. Представление о величии России как Империи, Державы — еще одна идеологическая аксиома в мировоззрениях, сближающая
Ф. И. Тютчева и П. Л. Проскурина. В конце жизни русские писатели ХIХ и ХХ вв. пережили глубокое разочарование в связи с падением имперской мощи России. Как и великий русский поэт, осознавший разрушение своих надежд после проигранной Крымской войны и ставший свидетелем равнодушного отношения царя к идее славянского братства, П. Л. Проскурин стал свидетелем уничтожения русской государственности Горбачевым и Ельциным, замены идеи социальной справедливости на законы капиталистического общества. Особый тютчевский взгляд на Россию и Европу определялся ракурсом Россия и Запад. Поэт-философ считал, что Западная Европа не является единственным цивилизационным образованием Старого Света. Для Ф. И. Тютчева Россия существовала как европейская страна: Россия — Восточная Европа. И если принадлежность к Западной Европе объяснялась католичеством, то к Восточной — православием. В представлении П. Л. Проскурина только путь России «был полнокровным и естественным опытом движения к единству земли и человечества», который «может принести расцвет земной цивилизации» [9, с. 433]. Писатель объясняет это тем, что «только у России и русского народа был изначально заложен объединительный фермент в сплочении Востока и Запада, и никому другому этого больше не дано…» [9, с. 433]. П. Л. Проскурин определяет историософское значение России для мира и цивилизации: «Гибель России — гибель всей белой расы» [9, с. 433]. Интерес к положению России как державы между Западом и Востоком, к значению страны в мировой истории человечества объединяет историософские взгляды поэта ХIХ в. и писателя ХХ в.
Знаменательно, что книга «Порог любви» также завершается обращением к Ф. И. Тютчеву. П. Л. Проскурин приводит известное четверостишие поэта, поэтическо-афористично формулирующее его главную истину, что такое вера в Россию. Писатель и пытается ощутить это на чувственном, эмоциональном плане. Лексика П. Л. Проскурина, описывающая строки Ф. И. Тютчева, выдержана в возвышенной модальности. Писатель метафорично обыгрывает слова поэта, отмечая их утяжеленный, золотой «вечный смысл». При этом они бессмертны в своей простоте и одновременной емкой наполненности. Последнее предложение этого абзаца подчеркивает светоносность тютчевских строк, призванных согревать и освещать сердце в тяжелые темные моменты. Лексика П. Л. Проскуриным подобрана так, чтобы передать эмоциональный накал стихотворения. Вера в Россию ощущается писателем через природный, отражающий бескрайность страны тысячелетний путь народа: «Тютчевское: “Умом России не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить” — одно из таких свидетельств, вобравшее в себя и неоглядные родные пространства полей и лесов, и журавлиный зов над ними, и тысячелетние пути народа, и героическое начало его национального характера, пронесшего через неисчислимые исторические катаклизмы и провалы, через невиданные битвы и свершения свою глубинную суть — суть творца и созидателя, а если это было жизненно необходимо и дело касалось судеб родины, то и беззаветного воина, вобрали в себя золотые, как бы утяжеленные от влитого в них вечного смысла тютчевские слова и весь последующий путь, путь России, и ее самое отдаленное, необозримое и сейчас, будущее... Как же много могут вместить в себя человеческие слова, самые простые, всем давно из- вестные, но рожденные в минуты высокого духовного подъема, что за бессмертное чудо такие слова! Чувствуете, как они немыслимо тяжелы и как прекрасны именно своей тяжестью? И как они светят и греют, как вспыхивают ярче, казалось бы, в самом сердце в немыслимо черные, провальные моменты!» [9, с. 411–412]. В тексте П. Л. Проскуриным использовано еще одно слово поэта «катаклизм» (стихотворение «Последний катаклизм»; строчки из письма А. В. Плетневой: «Еще несколько дней, и мы ввергнемся в настоящий катаклизм», речь идет о начале франко-прусской войны 1870 г.) [14, т. 6, с. 384]. Эта тютчевская лексическая единица, конечно, больше известная читателю по стихотворению, добавляет трагического пафоса в осмысление пути русского народа, постоянно проходящего над провалами и для которого «невиданные битвы» могли стать последними. Предназначение жить с ощущением над бездной П. Л. Проскуриным осознается как тютчевское понимание миссии русского народа. И из этой экстремальной жизненной программы нации для поэта ХIХ в. и писателя ХХ в. и формируется особая русская ментальность — героическая, творческая и созидательная.
Заключение
Для П. Л. Проскурина художественное наследие Ф. И. Тютчева — воплощение Большой истории, миссии русского народа, провиденциального образа России, бессмертия творчества. Писатель использует различные средства и приемы для презентации личности и лирики поэта: пафосную модальность, эзопов язык, акцентирует провидческий характер его лирики и философскую настроенность. Обращение к творческому наследию Ф. И. Тютчева позволяет раскрыть новые грани художественного мира П. Л. Проскурина, оценить роль классической традиции в его творчестве. Тютчевское восприятие жизни как «двойного бытия», хаоса, скрытого и готового вырваться из-под власти иллюзорного порядка типологически приближено к проскуринскому восприятию природного ландшафта в его двойной культурно-исторической ипостаси. Сложность мира, воспроизведенная поэтом, решается в его творчестве в политическом плане как державная устремленность России, что во многом сближено с позицией П. Проскурина.
В последний период творчества, начиная с романа «Отречение» и завершая второй частью мемуаров «На грани веков», для П. Проскурина обретают актуальность космизм поэзии Ф. И. Тютчева и дар поэта-пророка.