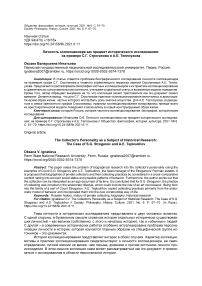Личность коллекционера как предмет исторического исследования: на примере С.Г. Строганова и А.Е. Теплоухова
Автор: Оксана Валерьевна Игнатьева
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема биографического исследования личности коллекционера на примерах графа С.Г. Строганова и главного управляющего пермских имений Строгановых А.Е. Теплоухова. Предлагается рассматривать биографии частных коллекционеров и их практики коллекционирования в сравнительно-сопоставительном контексте, учитывая социальный статус и возможные модели поведения. Кроме того, автор обращает внимание на то, что коллекция может трактоваться как эгодокумент своего времени. Делается вывод, что для С.Г. Строганова практики коллекционирования включались в аристократический образ жизни, частью которого могла быть роль знатока искусства. Для А.Е. Теплоухова, родившегося в семье крепостного графов Строгановых, практики коллекционирования копировались прежде всего из аристократической модели поведения и включались в новый конструируемый образ жизни.
История России, история частного коллекционирования, биография, исторические исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/149134195
IDR: 149134195 | УДК: 94(470) «16/18» | DOI: 10.24158/fik.2021.6.11
Текст научной статьи Личность коллекционера как предмет исторического исследования: на примере С.Г. Строганова и А.Е. Теплоухова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, , 0000-0002-9374-7378
Perm State National Research University, Perm, Russia, ,
Тема личности в исторических исследованиях представлена в двух основных аспектах. С одной стороны, в буквальном смысле слова как история отдельных исторически существовавших личностей – как великих (собственно, с этого и началась история), так и «обычных» людей. С другой – в современных исторических работах особенно актуализирована проблема персонализации личности в истории, которая изучается главным образом на специфической группе источников – эго-документах.
История коллекционирования представляет интерес в обоих случаях. Характер коллекции, мотивы и практики коллекционирования свидетельствуют о личности коллекционера, ее самоопределении, личной миссии не менее, чем письма, дневники и прочие источники личного происхождения. В этом смысле коллекция сама может рассматриваться как эго-документ и привлекаться к исследованиям в области персональной истории.
Кроме того, появление частного коллекционирования в европейской культуре как вида творческой активности [1] свидетельствует не только о формировании общества потребления [2], но и о начале процесса индивидуализации. Изучение личностей коллекционеров, их биографий в этом смысле приближает к разгадке коллекционирования как вида страсти, инстинкта или рациональной модели поведения.
В каком случае коллекционирование и частные коллекции могут выступать источником биографического исследования? Пользуясь предложенным Г.О. Винокуром методом отбора фактов для биографического анализа, но при этом применяя его к коллекционированию, можно сказать следующее: для того чтобы стать фактом биографическим, коллекция должна в той или иной форме быть пережитой личностью коллекционера. «Пережить что-либо – значит сделать соответствующее явление событием в своей личной жизни» [3, с. 39].
Итак, чтобы рассматривать коллекции в контексте биографического анализа, необходимо иметь исторические свидетельства «переживаний» личности по поводу собственной деятельности в качестве коллекционера. Для исследователя в таком случае важно не просто зафиксировать значимость практик коллекционирования для той или иной личности, но и понять мотивацию собирательства, место коллекционирования в судьбе человека своего исторического времени.
Вместе с тем, к сожалению, в отечественной литературе такой аспект исследований личностей российских коллекционеров практически не представлен. Чаще всего практики коллекционирования включаются в так называемую меценатскую и благотворительную деятельность, и только по масштабу коллекции и степени ее открытости оценивается и личность самого коллекционера. Также отсутствует и сравнительный анализ биографий коллекционеров, позволяющий «в лицах» представить эволюцию практик и смыслов коллекционирования в российском обществе в тот или иной исторический период.
Поскольку охватить данную тему в одной статье не представляется возможным, обратимся к сравнительному анализу двух исторических персонажей российских коллекционеров XIX в., различающихся по социальному статусу и масштабу собирательской деятельности, – графу С.Г. Строганову и А.Е. Теплоухову.
Как мы отмечали ранее, первой вслед за российскими императорами в процесс коллекционирования включилась аристократия [4]. Детство и взросление ее представителей проходили во дворцах и усадьбах, которые из поколения в поколение наполнялись произведениями прежде всего европейского искусства. Поездки за границу как продолжение образования включали в том числе собирание личных коллекций. Свободное от военной службы и государственных дел время уделялось общению с коллекциями, их изучению. Как правило, коллекции передавались по семейной традиции, не было страхов по поводу их дальнейшей судьбы, поскольку дети, воспитанные в тех же ценностных установках, хорошо понимали смысл этой деятельности и обычно выступали продолжателями.
Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882), будучи аристократом в нескольких поколениях, получил домашнее образование, затем вместе с братьями учился в открытом в Санкт-Петербурге Институте Корпуса инженерных путей сообщения. После участия в Отечественной войне 1812 г. не вернулся для завершения обучения, остался в армии для продолжения военной карьеры. Участвовал в заграничных походах русской армии, в том числе побывал в Париже, познакомился с европейскими художественными собраниями, начал собирать собственную коллекцию итальянской живописи. Оставаясь на военной службе, на свои средства в 1825 г. открыл рисовальную школу, в будущем знаменитое Строгановское художественное училище. В течение 1835–1847 гг. выступал попечителем Московского учебного округа, это был один из лучших периодов в истории Московского университета. При сравнении С.Г. Строганова с предыдущим попечителем, М.Н. Муравьевым, подчеркивается, что «это был человек типа Муравьева, но большего калибра, который преодолел не только житейское, но и ученое дилетантство меценатов, стал настоящим ученым» [5, с. 50]. С.Г. Строганов в соответствии со своими научными интересами отдавал предпочтение русским древностям, активно участвовал в деятельности нескольких научных обществ, в том числе был создателем Императорской археологической комиссии в 1859 г., являлся автором нескольких научных трудов.
Особой рефлексии по поводу собирательской деятельности С.Г. Строганова в его документах не встречается, что вполне понятно. Это было стилем жизни, выделявшим его среди других русских аристократов прежде всего как знатока искусства. При этом увлечение интеллектуальной деятельностью не противоречило аристократическому габитусу, с помощью коллекционирования складывалась личная манера реализации данных установок.
Наличие аристократического художественного вкуса, общение с европейскими и русскими учеными, ценность частного пространства и интеллектуального досуга – все это представлено в личности С.Г. Строганова в качестве усвоенного стиля жизни. Несмотря на практики коллекционирования, он называл себя не коллекционером, как собственно и большая часть дворянства, а скорее знатоком искусства.
Интересную характеристику разным подходам к произведению искусства дает М. Фридлендер, определяя роли любителя, собирателя, историка, эстетика и знатока. Так, знаток для него – это тот, кто «исследует произведение искусства с целью установить его автора. Некто владеет темным полотном, которое в его глазах не имеет никакой цены: он готов подарить его первому встречному. Знаток бросает взгляд на полотно и признает в нем работу Рембрандта. В результате такого определения торговец картинами платит за полотно целое состояние. Знаток создает – и уничтожает – ценности; и благодаря этому он располагает значительным могуществом» [6, с. 13–14]. Коллекция для знатока является источником, поводом для научной деятельности, научной коммуникации, в случае с графом С.Г. Строгановым – не профессиональной и не для получения научной степени или профессорской должности в университете, а как проявление аристократического образа жизни.
В отличие от коллекционирования С.Г. Строганова для биографии выходца из крепостного сословия Александра Ефимовича Теплоухова (1811–1885) это было скорее нонсенсом. Родившись в пермских имениях графов Строгановых, А.Е. Теплоухов при патронаже С.В. Строгановой получил европейское образование, построил карьеру лесовода и главноуправляющего в имении Строгановых. А.Е. Теплоухова относят к первым русским лесоводам, он же является автором многочисленных работ по лесоведению, особенно в отношении управления лесным хозяйством в помещичьих землях. Александр Ефимович начал собирательскую деятельность под прямым влиянием графа С.Г. Строганова, который вступил в управление пермскими имениями и, имея информацию об археологических находках на этих землях, обратился к главноуправляющим, в том числе А.Е. Тепло-ухову, с распоряжением о покупке для его собрания интересующих его вещей.
Нужно также отметить, что с С.Г. Строгановым А.Е. Теплоухов уже был хорошо знаком, поскольку граф брал его с собой в качестве личного секретаря в Ригу в 1831 г., когда выполнял обязанности временного военного губернатора. В дневнике за этот период А.Е. Теплоухов отмечал покровительственный характер отношения С.Г. Строганова к нему, который проявлялся в наставлениях о том, что читать, с кем общаться, о необходимости совершенствоваться в иностранных языках и т. д. Можно сделать предположение, что это общение оказалось для А.Е. Теп-лоухова ключевым для начала конструирования того образа жизни, представителем которого был С.Г. Строганов [7]. Данная стилизация еще укрепилась за время учебы в Германии в лесной академии, где он занимался прикладной научной деятельностью, пользовался авторитетом среди профессоров. А.Е. Теплоухову поступило предложение остаться для подготовки к профессорской должности, а после возвращения в Россию и получения вольной от графини С.В. Строгановой он женился на дочери немецкого профессора К. Крутча.
Перестав быть крепостным, А.Е. Теплоухов продолжал находиться на службе у Строгановых и, конечно, не мог рассчитывать на собственные планы в карьере. Начав после учебы в Германии преподавательскую деятельность в школе, открытой графиней С.В. Строгановой в Марьино, он придерживался традиций немецкого лесоводческого образования, готовил лесоводов по современным методикам и технологиям. Однако школа была закрыта и А.Е. Теплоухов был направлен в удаленное от городских благ цивилизации село Ильинское, которое благодаря его деятельности стало форпостом науки в Прикамье.
Поселившись в Ильинском, А.Е. Теплоухов начал работу в качестве главного лесничего имений, не только налаживая лесное хозяйство и обучая помощников, но и проводя прикладные научные исследования, результаты которых публиковались в европейских и русских журналах. Впоследствии Александр Ефимович был назначен главноуправляющим, административные функции, конечно, расширились, но это не помешало ему и далее сочетать обязанности с научной деятельностью. С данной целью в село Ильинское выписывались современная литература и научные журналы, велась научная переписка, впоследствии здесь находилась обширная коллекция, систематизация которой осуществлялась по научным принципам.
Поэтому неслучайно многие русские и европейские ученые, путешествующие через Пермскую губернию, считали своим долгом заехать к Теплоуховым, чтобы воочию увидеть их научные достижения и плоды практической работы. Признание научных заслуг А.Е. Теплоухова было столь велико, что он был избран членом сразу нескольких научных обществ в Германии, Франции, Австрии, Финляндии и России.
Внешние атрибуты образа жизни А.Е. Теплоухова в виде одежды, бытовых правил, воспитания детей, досуговых занятий наукой, работы в кабинете, ведения дневника и переписки, поездок в Европу на лечение соответствовали образцам жизни высшего класса. Для этого имелись и финансовые возможности – высокое жалование, пенсия и даже выделяемые Строгановыми суммы на «представительские расходы».
Однако данный образ жизни не был усвоен А.Е. Теплоуховым с детства, он конструировался с течением времени и по тем образцам, которые были доступны Александру Ефимовичу. Коллекционирование также вошло в его биографию первоначально как внешняя деятельность. По распоряжению С.Г. Строганова ему практически вменили в обязанности покупать археологические находки и присылать их графу для определения дальнейшей судьбы. В тот период особенно интересны были находки знаменитого сасанидского серебра и пермского звериного стиля, их С.Г. Строганов выделял и подчеркивал в письмах к А.Е. Теплоухову их научную значимость.
Копируя, по сути, практику коллекционирования по образцу С.Г. Строганова, Александр Ефимович настолько увлекся этим, что стал коллекционером сам, стараясь пользоваться своими каналами для приобретения находок, выезжая на археологические раскопки. Коллекция рассматривалась и как вид семейной собственности, в семье Теплоуховых было принято решение, что собрание будет переходить в собственность того из наследников, кто сможет продолжать ее пополнение и изучение. Такое, видимо, необычное для судьбы частных собраний решение было отмечено графиней А.С. Уваровой: «Единственный из частных владельцев, который, насколько мне известно, отнесся серьезно к своей коллекции, это Федор Александрович Теплоухов, главный лесничий Пермских имений графа Строгонова. Унаследовав от отца Александра Ефимовича богатую коллекцию местных древностей, Федор Александрович подписал с братом свои условия, которые указывают на такое серьезное отношение к делу, на такую любовь к отечественному просвещению, что я не могу не познакомить с ними читателя» [8, с. 15].
Таким образом, на примере биографий двух коллекционеров XIX в. можно отметить, что практики собирательства по-разному воспринимались представителями различных социальных страт российского общества. Для С.Г. Строганова как представителя аристократического сословия коллекционирование было вполне естественным, можно сказать, наследуемым видом деятельности. Для Александра Ефимовича оно выступало частью того образа жизни, который в силу жизненных обстоятельств осваивался по мере предоставляемых возможностей. Не будучи университетским профессором или аристократом, он вместе с тем нашел свою нишу для занятия собирательством, включившись в работу научных обществ.
Список литературы Личность коллекционера как предмет исторического исследования: на примере С.Г. Строганова и А.Е. Теплоухова
- Pearce S. On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. L., 1995. 456 p.
- Belk R. Collecting in a Consumer Society. L.; N. Y., 1995. 198 p.
- Винокур Г.О. Биография и культура. 2-е изд., испр. и доп. / предисл. В.А. Виноградова. М., 2007. 96 с.
- Игнатьева О.В. Коллекционирование в среде русской аристократии в XVIII–XIX вв. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2018. № 1. С. 54–62. https://doi.org/10.24866/1997-2857/2018-1/54-62.
- Солнцев К.И. Университет и правительственная политика // Двухсотлетие Московского университета. 1755–1955. Празднование в Америке. Нью-Йорк, 1956. С. 41–58.
- Фридлендер М. Знаток искусства. М., 1923. 43 с.
- Игнатьева О.В. Крепостные коллекционеры графов Строгановых: казус Теплоуховых // Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2015. № 1 (28). С. 195–204.
- Уварова П.С. Областные музеи. М., 1890. 24 с.