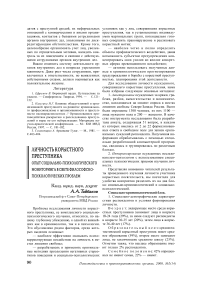Личность корыстного преступника. Опыт социально-психологического мониторинга в свете философско-психологических проблем
Автор: Тайбаков А.А.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психология правонарушающего поведения
Статья в выпуске: 2 (14), 2000 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14988377
IDR: 14988377
Текст статьи Личность корыстного преступника. Опыт социально-психологического мониторинга в свете философско-психологических проблем
Канд. юрид. наук, доцент
А.А.Тайбаков
Петрозаводский ф-т Санкт-Петербургского университета МВД России
Проблема исследования личности корыстного преступника, ее комплексного социальнопсихологического изучения, относится, по нашему глубокому убеждению, к одной из важнейших как в криминологии, так и в психологии. Это обусловлено рядом факторов, среди которых выделим основные:
-
— наиболее эффективно оказывать психокорректирующее воздействие на личность в местах лишения свободы;
-
— разрабатывать и применять оригинальные методики преодоления негативных стереотипов поведения и социально-психологических
установок как у лиц, совершивших корыстные преступления, так и установленных индивидуумов маргинальных групп, потенциально готовых совершить правонарушение и реализовать корыстный мотив;
-
— наиболее четко и полно определить объекты профилактического воздействия, давая возможность субъектам предупреждения концентрировать свои усилия во вполне конкретных сферах превенционного воздействия;
-
— активно использовать полученные данные в криминологическом прогнозировании предупреждения и борьбы с корыстной преступностью, планировании этой деятельности.
Для исследования личности осужденного, совершившего корыстные преступления, нами были избраны следующие основные методики:
-
1. Анкетирование осужденных за кражи, грабежи, разбои, вымогательство и мошенничество, находящихся на момент опроса в местах лишения свободы Северо-Запада России. Всего были опрошены 1300 человек, из них 1100 — лица мужского пола и 200 — женского. В качестве инструмента исследования была разработана анкета, содержащая 51 вопрос, в каждом из которых имелись от 2 до 22 формализованных ответа и свободное поле для записи оригинальных суждений респондента. Полученная информация обрабатывалась с помощью специально разработанной компьютерной программы, сводилась и группировалась по различным блокам.
-
2. Интервьюирование осужденных исследователем-психологом с использованием специальных психологических приемов изучения личности.
Представляя вниманию читателей результаты проведенного изучения личности участника корыстных посягательств, мы посчитали для удобства восприятия разделить их на два блока: социально-криминологический и социальнопсихологический.
Социально-криминологический блок.
-
1. Социально-демографические характеристики респондентов и условия формирования личности.
-
2. Мотивация преступного поведения.
В о з р а с т: лидирующее место среди корыстных преступников занимают лица в возрасте 18-24 года (29%), за ними следуют респонденты в возрасте 30-35 лет (20%), затем лица в возрасте 36-40 лет (17%).
О б р а з о в а т е л ь н ы й ц e н з: среднестатистический корыстный преступник имеет среднее образование (59%), второе место занимают лица, не закончившие среднюю школу (25%). Отметим также, что высшее образование имеют только 2% респондентов.
С е м е й н о е п о л о ж e н и е: 42% опрошенных не имеют семьи, 22% — имеют.
М е с т о ж и т е л ь с т в а: большинство лиц, совершивших корыстные преступления, городские жители (60%).
Р о д з а н я т и й: свыше 45% не работали и не учились.
При проведении исследования нас интересовала проблема мотивов как побуждающих начал корыстного поведения. 22% опрошенных указали в качестве основного мотива стремление выйти из материальных затруднений, 20% объяснили совершение корыстного посягательства пьянством, 15% — слабоволием, 8% — склонностью к легкой, беззаботной жизни. Следует отметить также, что на формирование корыстной мотивации респондентов оказали влияние в первую очередь друзья, товарищи (36%).
В процессе опроса нами также было установлено, что почти все опрошенные (около 75%) до осуждения совершали различного рода деликты, характеризовались девиантным поведением, 13% из них присваивали чужие вещи, 12% — совершали мелкие хищения, 45% осужденных систематически употребляли спиртные напитки.
Характеризуя состояние судимости корыстных преступников, отметим, что 36% осуждены повторно, 32% — три и более раза.
Социально-психологический блок
Согласно теориям мотиваций, человек существует так, как если бы он был закрытой системой, поскольку в основном он озабочен сохранением или восстановлением внутреннего равновесия, для чего, в свою очередь, ему необходима редукция напряжения. В конечном счете именно это и рассматривается как цель осуществления влечений и удовлетворения потребностей. Но, как показал Л. фон Берталанфи, даже в биологических системах нельзя опираться на принцип гомеостаза, а на основании изучения мозговой патологии был подтвержден тезис о том, что стремление к равновесию является не характеристикой нормального организма, а признаком патологии, так как лишь при заболевании организм стремится избежать напряжения. Вместе с тем при рассмотрении человека как открытой системы возникает вопрос о допустимых границах в соотношении идеального и реального — этих двух определяющих категорий существования человека.
В обыденной жизни попеременная ведущая роль одной из этих категорий создает ценности и определяет формы и методы достижения поставленных целей. При этом уровень соотношения специфичен для различных социальных групп и слоев населения. Так, устойчивое равенство идеального и реального в организации внутренних психических процессов на относительно низком уровне (в смысле как повседневных, так и общих задач, мировоззренческих взглядов) свойствен людям, занимающимся физическим, преимущественно земледельческим, трудом (значительную роль здесь играет факт открытости внешнему миру и природе, в отличие от рабочих, занятых общением с техникой) и живущих, условно, по таким принципам, как: “ценность имеет то, что материально”, “на чужое (не только материальное) не претендую, но и свое не отдам”.
Устойчивое доминирование идеального начала со значительным отрывом от реальной оценки собственных возможностей достижения желаемого присущ большинству представителей творческой интеллигенции. Отсюда — “томление духа”, поиск смысла жизни, частые, казалось бы беспричинные, депрессивные, ипохондрические состояния, ощущение безысходности, пессимизм в оценке будущего.
Обратная же взаимосвязь, а именно — закрепившееся уже на уровне мотиваций доминирование материализованных (реальных) претензий в ущерб духовно-нравственному началу объединяет в многообразии своих проявлений девиантное поведение и его крайнюю форму, в рассматриваемом случае, личностные особенности корыстных преступников.
Если представим две чаши весов, на одной из которых покоится громоздкое, объемное материальное, а на другой, на самом дне, — то, что познается интеллектом, мы видим: человек одновременно многое познает эмоциями. Решающая трудность в выявлении и коррекции большинства внутренних психологических проблем состоит в том, что происходит значительное отставание развития человеческих эмоций от умственного развития. Человек еще недостаточно созрел, чтобы, будучи предоставленным собственным силам, самому придавать смысл своей жизни.
Зигмунд Фрейд всегда рассматривал человека в его отношениях с другими, что, по сути, копирует систему отношений экономических. Индивид является нам с полным набором биологически обусловленных потребностей, которые должны быть удовлетворены. Чтобы достичь желаемого, индивид вступает в отношения с другими. Таким образом, другие всегда являются “объектами”, служат лишь средством для удовлетворения каких-то стремлений, которые существовали в индивиде до того, как он вошел в контакт с другими. В этом случае отношения индивида к обществу, по существу, являются статичными: индивид остается, в общем, одним и тем же, изменяясь лишь постольку, поскольку общество усиливает нажим на его естественные потребности.
В настоящее время проявляется новая тенденция, особенно выразительно демонстрирующая себя в последнее десятилетие — тенденция так называемого нравственного упадка преступного мира, который фактически отказался от собственного этического принципа полной отдельности от общества. Но это не означает, что власть добилась каких-либо существенных успехов в преодолении преступности.
Упадок нравов, или смягчение внутренних императивов воровского мира, не означает, что он на краю гибели. Напротив, воровской мир стал более гибок в приспособлении к изменившимся внешним условиям, что выглядит, скорее, не упадком, а, наоборот, повышением жизнеспособности, и даже (без претензий на тенденциозность) выглядит особо привлекательным.
Эти стандарты сами по себе вполне симпатичны достаточно широким слоям населения, никогда не разделяющим основных делинквентных принципов — для многих важным является стремление к творческому самовыражению, свободе, обретенной посредством отказа от принятых в обществе этических ценностей и запретов, свободе за счет других, не дающей упоения силой, но дающей выход тем глубинным, пусть деликтовым позывам человеческой воли, которые по велению общественной этики должны быть подавлены.
ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГОПСИХИАТРИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ГРУППОВОГО
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Канд. мед. наук, доцент Л.Н.Иванов , психолог Е.К.Герасимова
Саратовский юридический институт МВД России
Проблема совершения преступления в группе давно привлекает внимание ученых, но по-прежнему является актуальной. В 1999 г. преступными группами совершено в среднем по России 55,7% уголовно наказуемых деяний, в отдельных регионах этот показатель достигает 72,0%. Каждое третье уголовное дело отражает признаки совершения преступления организованной группой.
Групповое противоправное поведение уместно рассматривать как один из крайних вариантов отклоняющегося поведения деструктивной направленности. Отклоняющимся считается поведение (система поступков или отдельные поступки), не соответствующие нравственным или правовым нормам и требованиям общества, включающее девиантное, делинквентное и криминальное поведение. Имеется большое количество концепций отклоняющегося поведения — от биогенетических до культурно-исторических (2; 3).
С научной точки зрения, проблема групповой преступности в системе правоохранительных органов, на наш взгляд, одна из наиболее интересных.
В данном исследовании нами была предпринята попытка определить психологические факторы, способствующие групповому деструктивному, отклоняющемуся поведению, а также выявить соответствующие маркеры. Был спланирован и реализован научный эксперимент, в основе которого лежал метод изучения преступной группы на основе дифференциации ее членов по результатам психометрии относительно однородного контингента бывших сотрудников ОВД на этапе отбывания наказания с последующей экстраполяцией промежуточных результатов на относительно однородный состав действующих сотрудников органов правоприменения (начальный этап служебной деятельности), а также курсантов вузов системы МВД с последующим окончательным анализом полученных результатов и выделением маркеров девиантного и, в частности, группового девиантного поведения. Изучение преступной группы с учетом психосоциального статуса, отражающего легализацию субъективного фактора, безусловно представляет не только академический интерес, так как, на наш взгляд, может позволить выйти на разрешение проблемы регулятивного воздействия на предкриминальные формирования (4).
Основным инструментарием, позволяющим достичь поставленной цели и разрешить круг сформулированных задач, является предложенный нами метод обратной психосоциальной экстраполяции. Схематично его можно представить так: в условиях относительно однородной психосоциальной среды, в нашем случае это осужденные из числа бывших сотрудников органов правоприменения, отбывающие наказание за совершение групповых преступлений, осуществляется выделение девиантной группы. После чего происходит изучение массива с учетом заявленных позиций и формированием подгрупп на основе принципов девиантологии. Далее на основе детального описания выявлен-