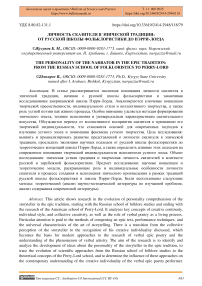Личность сказителя в эпической традиции: от русской школы фольклористики до Пэрри-Лорда
Автор: Жусупов Б.М.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция понимания личности сказителя в эпической традиции, начиная с русской школы фольклористики и заканчивая исследованиями американской школы Пэрри-Лорда. Анализируются ключевые концепции творческой преемственности, индивидуального стиля и коллективного творчества, а также роль устной поэзии как живого процесса. Особое внимание уделяется методам формирования эпического текста, технике исполнения и универсальным характеристикам сказительского искусства. Обсуждается переход от коллективного восприятия сказителя к признанию его творческой индивидуальности, что становится основой для современных подходов к изучению устного эпоса и понимания феномена устного творчества. Цель исследования: выявить и проанализировать развитие представлений о личности сказителя в эпической традиции, проследить эволюцию научных подходов от русской школы фольклористики до теоретических концепций школы Пэрри-Лорда, а также определить влияние этих подходов на современное понимание творческой индивидуальности исполнителя устного эпоса. Объект исследования: эпическая устная традиция и творческая личность сказителей в контексте русской и зарубежной фольклористики. Предмет исследования: научные концепции и теоретические модели, раскрывающие роль и индивидуальные особенности личности сказителя в процессе создания и исполнения эпического произведения в рамках традиций русской школы фольклористики и школы Пэрри-Лорда. Были использованы следующие методы: теоретический (анализ научно-методической литературы по изучаемой проблеме, анализ содержания современной литературы).
Фольклорное творчество, эпическая поэзия, личность сказителя, исполнительская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14133828
IDR: 14133828 | УДК: 8.80.82-131.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/79
Текст научной статьи Личность сказителя в эпической традиции: от русской школы фольклористики до Пэрри-Лорда
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 8.80.82-131.1
Ученые, заложившие основы русской школы фольклористики во второй половине XIX века, уделяли пристальное внимание личности жыршы и его роли в эпической традиции. Русский фольклорист А. Ф. Гильфердинг, глубоко изучавший творчество сказителей былин, сохранившееся на Севере России, одним из первых отметил, как по-разному былины запоминаются, передаются и переосмысливаются исполнителями. Основываясь на собственных наблюдениях и анализе записанных текстов, он подчеркнул важность индивидуальных творческих черт сказителей, зачастую неосознаваемых ими самими. Так, например, он указывает, что В. П. Щеголенок –– один из ярких представителей олонецкой традиции –– нередко усложнял структуру былин, добавляя в них мотивы и эпизоды из других произведений, а также стремился объединять различные сюжетные линии [1, с. 6].
Спустя десятилетия В. В. Радлов обратил внимание на импровизационные качества жомокчу-сказителей, как на пример творческого начала в искусстве кыргызских исполнителей эпоса, и отметил, что такое искусство зависит от «внутреннего настроения» сказителя, а оно в свою очередь находится под влиянием «внешнего побуждения», которое исходит «от окружающей исполнителя толпы слушателей». По мнению ученого, сказания, исполняемые устно, изменчивы, подвижны, текучи. Одним словом, «эпос не представляет собою ничего законченного, а является самим народным сознанием, живущим в народе и меняющимся с ним» [2].
Изучение постоянных изменений, происходящих в сказительском искусстве, было продолжено эпосоведами в начале ХХ века при исследовании определенных текстов. В 1907 году В. Н. Васильев, анализируя различные варианты былин, исполненные В. П. Щеголенком в разные годы, отметил, что различия между ними столь значительны, что тексты производят впечатление принадлежащих разным сказителям [3, с. 186].
Впоследствии, в 1923 году, Б. Я. Владимирцов, всесторонне исследовавший творческий процесс монгольских джангарчи, в своей работе «Монголо-ойратский героический эпос» акцентирует внимание на том, что в ойратской эпической традиции наблюдаются значительные различия в деталях повествования, в описаниях отдельных эпизодов из жизни героев, а также в изображении самих богатырей. Однако при этом сохраняется общая структура эпопеи. Именно поэтому героические поэмы ойратов производят впечатление, будто они являются плодом творчества одного автора, а не результатом коллективного народного сочинительства, то есть «кажутся нам не произведениями «народного», а единоличного творчества» [4, с. 29].
В это время П. Г. Богатырев и Р. О. Якобсон пытались определить связь творческих процессов в устной традиции и письменной литературе, используя в фольклористике известную двойственность (дихотомию) Соссюра «язык –– речь» [5, с. 900–913].
Начало 1930-х годов в советском эпосоведении ознаменовалось публикациями А. М. Астаховой, в которых были изложены первые итоги сравнительного анализа творческой практики сказителей русского Севера. В ходе изучения материалов фольклорной экспедиции, организованной ею в 1928–1929 годах в районе Прионежья и Печоры, исследовательница предложила классификацию сказителей былин, основанную на особенностях их восприятия и воспроизведения эпического текста.
А. М. Астахова выделила три основные категории. К первой она отнесла сказителей, которые передают текст былины дословно либо с минимальными отклонениями. Вторая категория включает исполнителей, сохраняющих фабульную основу былины и, используя устойчивые типические элементы, а также вставляя переходные сцены, создают собственную, фиксированную версию текста. Третья категория представляет собой тип импровизатора –– это сказители, использующие лишь сюжетную схему, но не придерживающиеся постоянного текста; каждый раз они заново формируют повествование, варьируя его с помощью новых сюжетных ходов, эпизодов, мотивов, образов и известных им формульных конструкций. В качестве определяющего критерия для данной типологии исследователь рассматривает поэтический стиль, характерный для текстов учителей каждого из сказителей [6, с. 71–82].
После завершения экспедиции, в ходе которой А. М. Астахова собрала материалы для своей знаковой статьи «Былинное творчество северных крестьян», летом 1933 года, а затем в 1934–1935 годах профессор Гарвардского университета (США) Милмэн Пэрри организовал две фольклорные экспедиции в различные регионы Югославии –– в частности, в Боснию и Герцеговину, а также в прилегающие области Черногории и Южной Сербии. Его целью было изучение феномена «устного стиля» эпоса в условиях живой традиции. Помимо записей текстов эпических песен, экспедиция собрала значительный объем информации, касающейся личности исполнителя-гусляра, условий исполнения и особенностей самого процесса пения.
Одним из важных достижений М. Пэрри стало то, что он впервые в практике эпосоведения зафиксировал исполнение одной и той же эпической песни одним и тем же сказителем несколько раз в разное время. Кроме того, были записаны варианты текстов в исполнении как учителя, так и ученика, а также версии одной и той же песни, исполненной разными сказителями.
После неожиданной смерти М. Пэрри в конце 1935 года его научную инициативу продолжил близкий друг и единомышленник, исследователь из Гарвардского университета Альберт Лорд. Он участвовал в экспедиции 1934 года, а в 1937 году вновь посетил Югославию с целью сбора дополнительных материалов. Лишь в 1948 году были опубликованы отдельные страницы исследования, начатого М. Пэрри после его возвращения из Югославии в 1935 году, –– они вошли в состав труда А. Б. Лорда, посвященного эпическому наследию Гомера [14, с. 34–44].
Надо сказать, что еще до американских исследователей в Югославии побывали ученые, которые занимались комплексом вопросов, связанных с личностями гусляров. Некоторых из них, таких как Матиаш Мурко, написавший фундаментальную монографию о южнославянских певцах, Г. Геземан и А. Шмаус, внесшие значительный вклад в изучение живых эпических традиций в Югославии, А. Б. Лорд справедливо называет своими предшественниками.
В своей книге «Вуковичи певачи» (Нови-Сад, 1981) В. Недич упоминает известного фольклориста Вука Караджича как человека, который первым открыл важную роль гусляров в создании, сохранении и передаче сербскохорватского эпоса из поколения в поколение. По словам ученого, он не просто назвал имена гусляров, которых записывал, но и дал их краткие выразительные портреты, а также высказал важные соображения по поводу их роли в традиционной поэзии, впервые обнаружив индивидуальное творческое начало в искусстве сказительства.
Материалы, собранные М. Пэрри и А. Б. Лордом в Югославии, последний использовал в своей статье о наследии Гомера, впервые опубликованной в 1948 г., когда он сравнивал древнегреческий эпос и искусство гусляров [15, с. 113–124]. В том же году была опубликована крупная монография А. М. Астаховой, посвященная анализу текстов и творческого метода севернорусских сказителей. Это фундаментальное исследование, вышедшее под заглавием «Русский былинный эпос на Севере», охватывало широкий спектр проблем, связанных с особенностями эпической традиции. В частности, в работе подробно рассматривались вопросы, касающиеся эволюции и вариативности эпических образов, перестройки композиционной структуры, контаминации –– то есть объединения нескольких сюжетных линий в рамках одного текста, –– а также процессы создания новых былин. Однако несмотря на значимость проделанной работы, последующее активное развитие указанных направлений осталось в значительной степени вне поля зрения исследователей [7, с. 15].
В 1948 г. вышла в свет статья всемирно известного советского фольклориста В. И. Чичерова «Сказители Онего-Каргопольщины и их былины», посвященная традиции сказывания былин на русском Севере [8, с. 32–65]. Данная статья, наряду с опубликованной двумя годами ранее работой «Эпическая традиция Кенозера и школа Сивцева-Поромского» [9, с. 74–76], являлась частью кандидатской диссертации, которую В. И. Чичеров успешно защитил в Москве 30 июня 1941 года. Эта диссертация стала результатом многолетней работы, направленной на осмысление песенно-эпического фольклорного наследия русского Севера. В своей исследовательской работе, долгое время остававшейся неопубликованной, автор провел систематизацию материалов, собранных в ходе фольклорных экспедиций в Заонежье и другие северные районы, организованных в 1926–1928 годах братьями Борисом и Юрием Соколовыми. На основе этих материалов Чичеров заложил основы практической реализации идеи А. Ф. Гильфердинга, заключавшейся в более глубоком изучении творческой преемственности между сказителями былин. В соответствии с этим подходом в рамках анализа творческих школ мастеров былинного сказывания была предпринята попытка типологизации их художественных моделей.
В рамках своего исследования В. И. Чичеров провел сравнительный анализ текстов, исполненных несколькими учениками двух сказителей, записи которых были сделаны первыми собирателями в конце XIX века. В результате он установил, что произведения пересказчиков, обучавшихся у одного и того же наставника, демонстрируют между собой существенные различия. Вместе с тем исследователь обратил внимание на проявление устойчивых индивидуальных черт в пределах традиционной формы. Однако, обозначив выявленные особенности как «индивидуальный вариант» и «индивидуальный текст», В. И. Чичеров тем самым ограничил трактовку авторского начала рамками, не выходящими за пределы концепции традиционного коллективного творчества. Таким образом, проявления индивидуального художественного таланта оказались в тени господствующей идеи фольклорной общности.
Особого внимания заслуживает мнение исследователя В. П. Аникина, высказанное в статье, посвященной монографии «Школы сказителей Заонежья», изданной в 1982 году и основанной на диссертационном исследовании В. И. Чичерова. В. П. Аникин подчеркивает значимость труда: «Ближайшее знакомство с направленностью текстологических разысканий автора особого и первого в русской науке труда о школах сказителей на русском Севере позволяет верно оценить достоинства исследовательского поиска, осуществленного задолго до работ современных опытов в области былиноведческой текстологии» [10, с. 195].
1940-е годы отмечены появлением первых в истории фольклористики комплексных работ по сбору эпического наследия тюркских народов. В 1925–1932 годах в СаяноАлтайский регион была отправлена фольклорная экспедиция по сбору эпического наследия кумандинцев, хакасов, телеутов и шорцев. Одна из участниц экспедиции, исследовательница Н. П. Дыренкова, составила первый научный сборник, посвященный устному словесному творчеству шорцев. Эта работа, подготовленная к печати в 1935 году, была опубликована лишь в 1940 году. Собирая и обобщая фольклорные материалы шорцев, впервые в истории исследований ученый уделила особое внимание личности кайчи и отметила, что в шорском богатырском эпосе, к примеру то, каким будет путь героя, во многом зависит от настроения кайчи. Сказитель по своему желанию и настроению, а также в зависимости от внимания слушателей может передавать поэму кратко и сжато, опустив ряд подробностей и эпизодов, или, наоборот, более пространно, прибавляя некоторые детали, украшая ее различными образами и привлекая ряд сравнений [11].
Импульс к новому осмыслению личности сказителя в эпосоведении возник в конце 1950-х годов, когда прежняя теория «исторической школы» утратила свою актуальность и отошла в прошлое. В этом контексте особое значение приобретает статья фольклориста И. И. Толстого «Аэды. Античные творцы и носители древнего эпоса», опубликованная в 1958 году. Посвящённая исследованию гомеровского наследия как части устной народной словесности, данная работа акцентирует внимание на специфике художественного мастерства эпического певца. И. И. Толстой доказывает, что греческие аэды не ограничивались механическим воспроизведением услышанного текста, выученного наизусть, а вдохновенно исполняли эпические произведения в музыкально-поэтической форме. Согласно его позиции, аэд-сказитель осваивает общий канон эпоса, строго следуя сюжетной линии и характерной эпической топике, однако отдельные образы и сценические эпизоды каждый раз заново формируются в процессе исполнения, в зависимости от индивидуальных творческих способностей исполнителя. Исходя из этого, автор приходит к выводу о том, что поэмы, приписываемые Гомеру, могли возникать не как произведения одного единственного гения, а быть результатом коллективного авторства в рамках устной традиции [12, с. 47].
В свое время теоретическое осмысление феномена сказительства предпринял и Мухтар Ауэзов –– знаток кыргызского эпоса и один из его первых исследователей. В статье «Сказители эпоса» он поднял целый ряд значимых теоретических проблем. Центральным вопросом в его исследовании стала фабульная заимствованность эпического материала, наблюдаемая в процессе передачи эпоса от одного сказителя к другому. При этом М. Ауэзов подчеркивал, что несмотря на наличие отдельных незначительных отличий, основная сюжетная структура и каноническая поэтика остаются практически неизменными. Такое утверждение противоречит известной точке зрения В. В. Радлова, который подчеркивал изменчивый характер эпоса, способного к постоянным трансформациям в исполнении жомокчу без нарушения целостности. М. Ауэзов же опирался на особенность кыргызского эпоса, заключающуюся в наличии устойчивого композиционного остова, сформированного несколькими рядами модельно-шаблонных формул, которые вместе с традиционным сюжетом обеспечивают структурную стабильность произведения.
Впервые М. Ауэзов также предложил классификацию сказителей-манасчи по принадлежности к различным творческим школам, обратив внимание на существенные различия между ними. Тем не менее, он отмечал, что данные школы не существуют в полной изоляции друг от друга –– напротив, между ними существует культурная преемственность: сказители передают и заимствуют эпические варианты, сохраняя при этом их характерные черты. В рамках своей концепции исследователь оперирует такими понятиями, как «фабульная зависимость», «общий каркас» и «взаимно приближённый канонический текст», подчеркивая наличие устойчивой системы, объединяющей разные исполнительские традиции в пределах единой эпической модели [13, с. 16].
В 1960 году в издательстве Гарвардского университета (США) было выпущено фундаментальное исследование А. Б. Лорда «The Singer of Tales» (сначала в русских изданиях его название переводили как «Эпический певец» или «Певец сказаний», пока наконец в 1994 году монография не вышла под названием «Сказитель»). В этой работе, являющейся одним из важнейших исследований по теории эпоса во второй половине XX века, автор, обобщив и систематизировав работы своего учителя М. Пэрри и свои многолетние исследования, представил их в виде самостоятельной научной концепции. В ней впервые на основе материалов живой певческо-эпической традиции была изложена стройная теория формирования и существования эпического текста. В принципе, она родилась из необходимости изучения авторами «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, а также наследия средневекового эпоса в Европе, однако впоследствии успешно использовалась востоковедами при изучении эпического наследия народов Востока.
Ключевой особенностью исследовательского подхода, получившего впоследствии наименование школы Пэрри-Лорда, стало изучение формирования эпической техники как явления, существующего в условиях живой устной традиции, с акцентом на универсальные черты сказительского искусства. Центральное внимание американских исследователей было сосредоточено на фигуре эпического певца и на самом эпическом тексте как взаимосвязанных и неотделимых элементах фольклорного творчества. Согласно теоретическим положениям, выдвинутым М. Пэрри и А. Б. Лордом, процессы устного освоения, осмысления, структурирования и исполнения текста в эпической традиции представляют собой единую систему. Иными словами, по их мнению, устная поэзия –– это особый тип поэтического искусства, который возникает непосредственно в процессе живого исполнения и не может быть адекватно понят вне этого контекста.
Такое понимание устной поэзии предполагает специфические методы ее создания, которые, как подчеркивают Пэрри и Лорд, заключаются в построении метрически выверенных стихов и полустиший, с использованием формул и формульных выражений, а также в организации песенного повествования на основе устойчивых тематических структур. В этом смысле поэтика устной традиции определяется как система, где формулы и темы становятся основными конструктивными единицами.
Для А. Б. Лорда традиция –– это понятие, выходящее за пределы простого наследования текстов; она обозначает также и «искусство сложения поэзии». Каждое исполнение, по его мнению, является не повторением уже существующего произведения, а представляет собой новую, оригинальную песню, поскольку каждое выступление уникально и несет в себе индивидуальные черты исполнителя, его стиль, память и творческое видение. Именно это –– уникальность исполнения в пределах традиции –– делает сказительское искусство объектом особого интереса в рамках школы Пэрри-Лорда [16, с. 4].
Заключение
История исследований сказительского искусства в фольклористике демонстрирует устойчивый интерес к личности исполнителя, его творческому началу и роли в сохранении и трансформации эпических традиций. Уже в XIX веке ученые, такие как А. Ф. Гильфердинг и В. В. Радлов, отмечали индивидуальные особенности сказителей, подчеркивая текучесть и изменчивость устного эпоса. В XX веке исследовательская мысль продолжила развиваться в этом направлении, углубляясь в анализ текстов, фиксируя импровизационные элементы, типологизируя сказителей и выявляя школы исполнения. Работы М. Пэрри и А. Б. Лорда, основанные на югославском материале, стали переломным моментом в эпосоведении, предложив новую теоретическую модель, в которой сказитель осмысляется не как передатчик фиксированного текста, а как активный носитель поэтической традиции, формирующий эпос в процессе исполнения. Их концепция устного поэтического творчества получила широкое признание и оказала влияние на изучение эпоса у народов Востока, в том числе в русской и тюркской фольклористике. В результате фольклористика пришла к пониманию эпоса как живого, динамичного явления, неотделимого от индивидуальности исполнителя. Сказитель предстает не только хранителем, но и творцом, интерпретатором традиции, чье искусство формируется в контексте коллективной памяти, личного стиля и взаимодействия со слушательской аудиторией. Такой подход позволяет более глубоко осмыслить процессы сохранения, варьирования и передачи фольклорного наследия, раскрывая богатство и сложность устной эпической традиции.