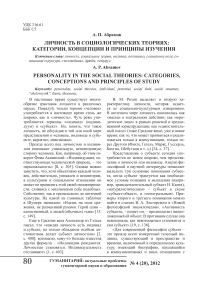Личность в социологических теориях: категории, концепции и принципы изучения
Автор: Абрамов Александр Петрович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются наиболее продуктивные концепции и подходы к изучению личности как системы с позиций современного социально-философского и культурологического знания.
Личность, социальные теории, индивид, потенциал, социальное поле, социальная структура, "человейннк", фрейм, тезаурус
Короткий адрес: https://sciup.org/14720725
IDR: 14720725 | УДК: 316.61
Текст научной статьи Личность в социологических теориях: категории, концепции и принципы изучения
В настоящее время существует многообразие трактовок личности в различных науках. Пожалуй, только термин «человек» употребляется в настоящее время столь же широко, как и «личность». Чуть реже употребляются термины «индивид» (индивидуум) и «субъект». Но, понять, что такое личность, не обсуждая в той или иной мере представления о человеке, индивиде и субъекте, вероятно, невозможно.
Прежде всего под личностью и индивидом понимают уникальную, неповторимую сторону человека. Как, например, об этом говорит Фома Аквинский: «Индивидуация, соответствующая человеческой природе, – это персональность» [8, с. 105]. Однако можно заметить, что, хотя объективно каждый человек, действительно, уникален и неповторим, в культурном и социальном отношении он может не проявлять этой своей неповторимости, сливаясь с миллионами себе подобных. Собственно, так и происходило до античной культуры. На одной из глиняных табличек в Шумере написано: «Идешь на поле сражения, не размахивай руками. Герой один – единственный, а людей (обычных) тьма» [15, с. 149].
Еще в Средние века Александр из Гэльса писал, что «каждая личность есть индивид и субъект, но только обладание особым достоинством делает субъект личностью» [3, с. 400]; возможно, кому-то больше известна другая формула – «Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» [1, с. 403].
В. М. Розин выделяет и вторую характеристику личности, которая задается ее социально-культурным измерением. В античном мире личность понималась как «маска» в театральном действии; как «юридическое лицо» в рамках римской и средневековой юриспруденции; как «самостоятельный голос» (тоже Средние века), уже в новое время; как то, что может проявиться и реализоваться только в коммуникации, только через Другого (Фихте, Гегель, Маркс, Гуссерль, Бахтин, Шебутани и т. д.) [24, с. 37].
Представление о субъекте сегодня употребляется не менее широко, чем представление о личности или индивиде. Анализ философской и научной литературы позволяет выделить три основные понимания субъекта, когда субъект трактуется как необходимое условие познания и мышления (например, трансцендентальный субъект И. Канта), «натуралистическим» – субъект в схеме «субъект-объект», и «интегральным». Примеры второго и третьего понимания можно найти в статьях В. А. Лекторского в «Новой философской энциклопедии». «Активность субъекта, – пишет он, – предполагает внепо-ложенный ей объект. В противном случае она невозможна, как невозможным становится и сам субъект» [19, с. 136].
«Для современной философии субъект – это прежде всего конкретный телесный индивид, существующий в пространстве и времени, включенный в определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных и иных отношениях с другими людьми. Непосредственно внутренне по отношению к индивиду субъект выступает как «Я». По отношению к иным людям выступает как «другой». По отношению к физическим вещам и предметам культуры субъект выступает как источник познания и преобразования» [20, с. 660].
Наиболее специфичной можно считать еще одну характеристику личности. Личность – это то, что предполагает самосознание, самоопределение, конституирование собственной жизни и собственного «Я».
Обозначая эту характеристику личности, П. П. Гайденко приводит слова Фихте: «Индивид возможен лишь благодаря тому, что он отличается от другого индивида… Я не могу мыслить себя как индивида, не противопоставляя себе другого индивида» [8].
Наиболее точно диспозиция личность-индивидуальность выражена в работе В. С. Библера «Образ простеца и идея личности в культуре средних веков». По Библеру, если человек всего лишь исполняет социальную роль, то он и не личность, и не индивид. Когда же человек начинает себя самодетер-минировать, возникает пара – личность и индивид [6, с. 122]. Отсюда и определение личности, которое дают Л. Г. Голубкова и В. М. Розин: личность – человек, который действует самостоятельно и сам выстраивает свою жизнь, который обладает для этого необходимыми способностями и телесными структурами. Кроме того, личность – это человек в определенной культуре, там, где сложились условия для ее существования [9, с. 122].
Разработка онтологии «культура и личность» занимает одно из центральных дискурсов современной социологии, философии, культурологии и других общественных дисциплин.
Человек не только продукт природы и культуры, но и их преобразователь. В эпоху Возрождения сложилось убеждение, что человек – творец, который способен создавать и самого себя. Через некоторое время такое мироощущение вылилось в осознание себя личностью, одно из первых определений которой принадлежит представителю немецкой классической философии, И. Канту. «Свобода и независимость от механизма природы… способность существа починять- ся особым, данным его же собственным разумом законам» – это не что иное, как личность [14, с. 209].
Обсуждая, что такое личность, А. Асмолов ссылается на А. Н. Леонтьева, который писал: «Первые активные и сознательные поступки – вот начало личности. Становление ее происходит в напряженной внутренней работе, когда человек как бы постоянно решает задачу, “чему во мне быть”… Чем больше действие человека отклоняется от типичных действий большинства людей, тем вернее, что за ним стоят «внутренние» личностные факторы – внутренние «диспозиции» (предрасположенности к действиям» [12, с. 140].
Отсюда предрасположенность к действию и задает начала личности. Поступок выливается в изменение самой личности, а иногда и приводит к изменению социальной реальности. А поскольку личность действует в пространстве культуры, она не может не следовать традиции. В этом случае личность сама становится и субъектом и объектом культурно-творческих практик. Ориентируясь в мире культуры личности, приходится или самой задавать такие практики, или следовать за другими.
Пространство таких ориентаций по В. М. Розину, включает следующие оппозиции личности:
Первая:
– только на самого себя («эгоистическая личность);
– только на социум (общественно ориентированная личность);
– одновременно и на себя, и на социум (гармоничная личность).
Вторая оппозиция:
– ориентация на массовое поведение (массовая личность);
– ориентация на уникальное поведение (уникальная личность).
Третья оппозиция:
– на благо и добро (нравственная личность);
– безотносительная к этим категориям (внеэтичная личность).
Такая типология личностей достаточно условна, но вполне соответствует авторской позиции.
Одно из условий самостоятельного поведения личности – личная история человека. Это не просто биография человека, а умение выстроить для себя приемлемую композицию для той или иной реальности (эта «личность» из прошлого», эта «из настоящего», а та «из будущего»). Личная история помогает человеку сохранить идентичность и опереться на опыт прошлой жизни. В свое время этот метод изучения личности обозначили американские исследователи П. Бергер и Б. Бергер, назвав его библиографическим подходом [4, с. 25].
Другое необходимое условие – творчество личности, которая позволяет видеть по-новому, изобрести что-то под влиянием культуры и коммуникации, с опорой на свои поступки, свой социальный опыт и осознание. Совершая поступок, человек, с одной стороны, уясняет, что для него приемлемо и ограничено, с другой – конструирует социальную реальность.
При этом в современной культуре складывается в одном случае «массовая личность», в другом – «уникальная личность». Человек как «массовая личность» самостоятельно выбирает профессию, образ жизни в рамках условий и ограниченной социума, в котором находится. Он движется по «колеям», проложенным социумом и никогда их не покидает.
Уникальная (творческая) личность сама прокладывает себе «тропинки», которые могут превратиться в социальные колеи. Именно уникальная личность, нередко вступая в противоречия со сложившимися в обществе представлениями, создает новые культурно-творческие практики каждый в своем социальном поле. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, например, в литературе; П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков – в музыке; И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. К. Айвазовский – в живописи; Д. И. Менделеев, М. В. Ломоносов, В. И. Вернадский – в науке; А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Г. К. Жуков, П. С. Нахимов и Ф. Ф. Ушаков – в военном и военно-морском деле.
Но Творец не был бы таковым, если бы не создавал нового, не выступал в качестве новатора. Человек реализует в творчестве не только самого себя, а и свое время. Через творчество и мышление личности реализуется время и современность. Новое в социальном мире складывается не само по себе, а в постоянном взаимодействии, в коммуникации. В процессе коммуникации устанавливаются критерии новизны, парадигмы и ориентированное на Творца сообщество, которое признает его таковым.
Отсюда и характеристики творчества, которые приводит В. М. Розин в работе «Традиционная и современная философия»:
– особое соотношение традиции и новации;
– совпадение личности и модернити;
– контекстом творчества выступает коммуникация [25, с. 298].
Розин приводит стратегию исследования феномена творчества, включающую два разных плана – реконструкцию поиска творческой личности и условий, определяющих этот поиск. Когда творчество характеризуется через новизну, он ставит вопрос: как понять, что это такое? Новое для самого автора новизны может таковым для других не являться. И, наоборот, автор может считать свою деятельность вполне обычной, но кто-то или идущее вослед за ним время объявляют ее творчеством.
Второй способ раскрытия творчества – психологическое описание процессов и механизмов творчества. В. А. Коваленко приводит шесть этапов творческого процесса: постановка проблемы, рождение замысла, атака, релаксация, инкубация (созревание) решения, инсайт (озарение истиной). С его точки зрения, творчество – психологические механизмы бессознательного и сознания [16, с. 28]. Такой подход не выдерживает серьезной критики. Поскольку творчество характеризуется через механизмы бессознательного, интуицию, озарение и тому подобные феномены, подобный анализ творчества не менее бессознателен и интуитивен. Кроме того, нетрудно заметить, что разные исследователи творчества характеризуют его различно, исходя из разделяемых ими теорий и привлекаемого материала. Никому еще не удалось так, чтобы с этим согласились остальные, свести воедино многочисленные характеристики творчества. Отсюда и вечная дискуссия, порождающая создание научных школ по изучению личности в поисках ответа на вопрос: что такое творчество?
Актуальным представляется подход к раскрытию потенций личности через лидерство. Именно через лидерство, по мнению Д. В. Беспалова, срабатывает один из механизмов самовыражения, раскрытия личности в коллективе [5, с. 81]. Наличие потенциала еще не говорит о том, насколько полно он будет реализован. Поэтому и личность, и ее творческий потенциал как объективные социальные определенности обращены к своему образу жизни.
Образ жизни развертывается как упорядоченное взаимодействие индивидов, в ходе которых люди реализуют свои ценности, существующие в обществе как определенная система. Система ценностей порождает в сознании индивидов личностную систему ценностных ориентаций, проявляя свою социально-регуляторную функцию. В пределах данного общества индивиды должны исходить из некоторой единой (типичной) системы ценностей, преобразуя ее в свою личностную структуру ценностных ориентаций.
Совокупность типичных ценностных ориентаций, свойственных личности в данном обществе, по определению И. С. Кона, определяется как социальный характер [17, с. 28].
Социальный характер составляет основу социального типа личности как обобщенного отражения совокупности повторяющихся, существенных социальных качеств личности, входящих в какую-либо социальную общность. Одни социологи считают, что данные понятия, по существу, тождественны, другие – что между ними есть определенные отличия. Развернутая характеристика социальных характеров и их типов дана в работах американских социологов Д. Рисмена и Э. Фромма.
Социальный характер личности выполняет функцию социального контроля, действуя более гибко, чем ролевые предписания.
В ходе взаимодействий по исполнению социальных ролей люди реализуют свои ценности, существующие в обществе, тем самым порождая в своем сознании социальную личностную систему ценностных ори- ентаций. Данная система составляет основу социального типа личности как обобщенного отражения совокупности повторяющихся, существенных социальных качеств личности, входящей в какую-либо социальную общность.
Личность как система характеризуется не только специфичностью ценностных ориентаций и социальных качеств, но и особым положением в зависимости от исполняемых ею ролей. Взаимодействуя с различными людьми по поводу удовлетворения своих потребностей, каждый человек исполняет определенные социальные функции, что налагает на него определенные функциональные обязанности и права. Наиболее значимые обязанности и права действуют в рамках социальных институтов и определяются социальным положением индивида. В социальном положении, именуемом в социологии как социальный статус, выражаются функциональные возможности личности.
В зависимости от объективных и субъективных условий складывается определенная социальная структура личности, и сама личность при этом самоорганизуется как социальная система.
«Системой, – утверждает Н. Луман, – является не всякое взаимоотношение, а лишь то, которое вычленяется на фоне окружения. …Основной фактор в создании социальной системы кроется в ее функции – очертить определенный сектор комплексности в целях его последующего упрощения (редуцирования)» [23].
Английские исследователи Р. Флуд и М. Джексон предложили классификацию социальных систем, имеющих два основания: степень сложности и унитарность [26, с. 38]. Каждый тип системы из этой классификации предполагает определенную познавательную модель.
Процесс самоорганизации личности начинается со случайных внешних воздействий в форме различных социальных контактов со своим окружением. Результаты воздействий постепенно накапливаются в виде усвоенных знаний, воспринятых социальных норм, коммуникативного опыта, образовывая предпосылки для формирования личности. Но существует некий предел, за которым ре- зультаты последующих все расширяющихся взаимодействий вызывают конфликт между наличной информацией и вновь поступающей. По этой причине в образовании таких систем, как личность, на первый план выходят процессы согласования компонентов в рамках единой структуры, объединяя их в целостность. Это позволяет личности определенным образом противостоять внешним воздействиям, проявлять устойчивость по отношению к ним и находить наиболее адекватные методы реагирования.
Таким образом, личность – это совокупность не только социально-позитивных черт, а целостность освоенных ею социальных качеств, характеризующих общество, социальную группу, социальную общность.
Поэтому при анализе процессов социокультурной трансформации личности как целостной системы необходимо учитывать следующее:
– целостность является системным образованием, элементы которой находятся во взаимосвязях друг с другом;
– такое взаимодействие обеспечивает единство развития и устойчивости в форме процесса и результата;
– целостная система предполагает поддержание устойчивости достигнутого состояния как благоприятного для жизнедеятельности личности и в то же время в целостности заключается возможность развертывания внутренних потенциальных резервов системы во внешнем мире и обеспечение за счет этого своего собственного развития.
Еще одна из теоретических проблем изучения личности состоит в выяснении следующих концептуальных вопросов: как соединены общество и личность? как с личностного уровня перейти на уровень общественный? какие подходы, имеющиеся в научном знании, можно использовать при изучении проблем социокультурной трансформации личности в условиях реформирования военной организации?
Первоначально эта проблема встраивалась преимущественно в социальнофилософский контекст. Ее актуальность возросла с первой половины XIX в. с возникновением социологии как науки.
Родоначальник социологии, О. Конт, рассматривал индивида в качестве абстракции, реальность же связывалась им с обществом: оно-то (через распространение идей) управляет мыслями и действиями человека. «Идеи правят миром и переворачивают его, весь его механизм в конечном счете основывается на мнениях» [Цит. по: 18, с. 15], – обобщал он свои представления по проблеме взаимодействия личности и общества.
У Г. Спенсера – абсолютно иная позиция: общество – лишь агрегат индивидов, индивид не должен быть поглощен социальным организмом.
Этот принципиальный спор в условиях конкуренции научных парадигм наблюдается и до настоящего времени.
Попытки разрешить его путем сужения понятия «общество» вряд ли перспективны. К ним можно отнести трактовку проблемы Дж. Хомансом в работе «Человеческая группа», где он утверждал: «…сколько бы ни были крупными социальные организации, в которые включен человек, он всегда общается непосредственно с небольшим числом людей, его поведение определяется в рамках небольшой группы. На материале наблюдений за такими группами и возникают социологические абстракции первого порядка» [27, с. 75]. Показывая роль малых групп в жизни человека, Хоманс дистанцирует макросоциологию от микросоциологии, социологию, основанную на качественной стратегии исследования, от социологии, отдающей приоритет количественной стратегии.
Только в рамках установления междисциплинарных связей социальной философии, социологии, культурологии нашего времени были фактически найдены пути решения дилеммы «личность-общество».
Как утверждает В. А. Луков, открытие этих путей и механизмов следует признать важнейшими событиями в гуманитарных науках конца ХХ в.: идентификация и есть мост между личностью и обществом, а социальное конструирование реальности – способ, каким идентификация приобретает свое содержание [21]. Тем самым в современной науке найден ключ к наиболее сложным теоретическим вопросам понимания происходящего как на уровне индивидуальных со- циальных и культурных практик, так и общества и культуры в целом.
Интерес к проблеме идентификации появился в социологии, антропологии, культурологии в 50–60-е гг. ХХ в. Этому способствовали публикации трудов американских ученых Э. Эриксона и И. Гофмана. В конце ХХ в. тематика идентичности стала особенно популярна, и сегодня идентичность – понятие, которое стало центральным для большинства исследований в мировой социологии, оно осваивается всем строем гуманитарного знания [11]. Об идентичности речь идет в контексте феминистских теорий, теорий постмодернизма и глобалистики, что отражается в работах ученых конца ХХ – начала ХХI в.
Социальная среда, в которую включена личность, представляет собой социальное поле, позволяющее отразить многообразие жизненных ситуаций.
«Поле», по Бурдье, – это специфическая система объективных связей между различными позициями, находящимися в альянсе или конфликте, в конкуренции или кооперации, определяемыми социально и в большей степени не зависящими от физического существования индивидов, которые эти позиции занимают. Соединение габитуса и поля «представляет единственно строгий способ вновь ввести в анализ единичных агентов и их единичные поступки, не впадая в анекдотическую ситуацию событийной истории без начала и конца» [7, с. 76]. В таком социальном поле личность конструируется с некоторыми ограничениями. Такими ограничителями выступают общество и его структурные элементы.
Принудительность свободного выбора личностью своего жизненного пути и конкретного действия, определяемая габитусом П. Бурдье, рассматривается рядом других исследователей в несколько иных аспектах. Выбор не является произвольным. Общество задает индивиду рамки восприятия окружающего мира, создает определенные ситуации социального действия. Указывая на это, американский социолог И. Гофман связывает свою теорию фреймов (от англ. «строение, структура, рамка») с данной традицией. Определенная ситуация в соответ- ствии с его подходом создается, во-первых, в соответствии с принципами социальной организации событий и, во-вторых, в зависимости от субъективной вовлеченности в них, т. е. фрейм обозначает «все, что описывается этими двумя элементами» [10, с. 71].
Теория фреймов достаточно продуктивна, поскольку раскрывает механизмы взаимодействия личности со своим окружением – природным и социальным.
Среди продуктивных концепций при анализе процесса конструирования личности заслуживает внимания идея структурации и социальных практик английского социолога Э. Гидденса. В качестве единиц изучения Гидденс выделяет социальные практики, в которых отражена неразделенная связь социальной структуры и социального действия. Социальные практики – это постоянный поток производства социального действия, который порождает структуры, правила и ресурсы, а те в свою очередь воспроизводятся в социальных действиях акторов. Структура в итоге представляет собой организованные регулярные социальные практики, правила и ресурсы, она становится динамичной, наполняется постоянно возобновляемым содержанием.
Один из дискуссионных вопросов, который встречается в литературе, – назначение социальных практик в жизнедеятельности людей. Отечественный исследователь В. А. Луков в работе «Движение гуманитарных наук к пониманию тезауруса» в связи с этим выделяет две позиции, которые заметно различаются по своей сути. Первая позиция, как отмечает Луков, представлена трактовкой немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса: социальные практики – все то, что делают социальные агенты, включая целесообразные преобразования предметов, взятые в их социальных формах. Практики не могут быть сведены ни к объективному научному познанию, ни к субъективному опыту сознания, а являются действительным осуществлением социальных отношений. На первый план в этой позиции выдвинуты те стороны социальных практик, которые оказывают существенную роль на жизнедеятельность индивидов. Другая позиция (Т. И. Заславская) трактует социальные практики как устойчи- вые системы взаимосвязанного и взаимно ориентированного ролевого поведения социальных субъектов (индивиды, организации и группы, конкретные формы функционирования социальных институтов. Общей формой реализации каждого социального института служит не что иное, как совокупность социальных практик в соответствующей сфере. Конкретные практики могут меняться, не затрагивая сущности институтов. Тем не менее трансформация институциональной структуры общества – это прежде всего, социокультурный процесс, внешним выражением которого служит качественное изменение повседневных массовых практик [21].
Институционализации подвергаются преимущественно те социальные практики, которые имеют большую значимость, отличаются устойчивостью и традиционностью. Именно такие практики составляют устойчивое ядро жизнедеятельности данного общества, в то время как недавно возникшие, менее значимые, ненормативные или противозаконные практики обычно представляют ее периферию.
Обе эти трактовки дополняют друг друга, поскольку социокультурные практики со-бытийны в отличие от институциональных форм, но в них представлена определенная степень обобщенности, регулярности, предсказуемости, что и позволяет их изучать во взаимосвязи.
При создании теоретической конструкции личности весьма оригинальной и продуктивной выступает идея человейника. Понятие «человейник» введено в научный оборот русским философом и социологом А. А. Зиновьевым. Признаки «человейника», по его мнению, таковы:
– члены «человейника» живут совместно исторической жизнью, воспроизводя себе подобных людей;
– вступая в регулярные связи с другими членами «человейника», они живут как целое;
– в составе целого их характеризует разделение функций и, соответственно, различие занимаемых позиций (частью – идущих от природных различий, но прежде всего в силу условий «человейника»); совместными усилиями члены «человейника» обеспечивают его самосохранение;
– «человейник» занимает и использует определенное пространство, в пределах которого обладает автономией жизни, которую поддерживает и защищает от внешних угроз;
– «человейник» обладает внутренней идентификацией, т. е. «его члены осознают себя в качестве таковых, а другие его члены признают их роль в качестве «своих», а также внешней идентификацией, т. е. «люди, не принадлежащие к нему, но как-то сталкивающиеся с ним, признают его в качестве образования, к которому они не принадлежат, а члены человейника осознают их как чужих» [13, с. 200].
К такому «человейнику» можно отнести и семью, и японскую корпорацию.
В составе «человейника» формируется определенная ментальная сфера, основные функции которой А. А. Зиновьев классифицирует следующим образом:
– разработка, хранение и навязывание людям определенного мировоззрения и определенной системы ценностей (оценок);
– вовлечение людей в определенные действия, касающиеся их сознания, принуждение к этим действиям;
– контроль за мыслями и чувствами людей и организация их на такой контроль в отношении друг друга [12, с. 116].
Каждая из представленных концепций в той или иной мере близка между собой. Их отличает своего рода «порт приписки в науке».
Выделенные концепции в определенной мере близки тезаурусному подходу.
Так, в теории тезауруса, представленной в работах В. А. Лукова и А. И. Ковалевой, тезаурус трактуется в качестве маркера ментальных структур, придающих смысл обыденным действиям людей и их сообществ, но кроме этого предопределяющих самые различные отклонения от обыденности и оказывающих воздействие, возможно – решающее, на весь комплекс социальных структур, социальных институтов и процессов [22, с. 130]. Базовой категорией для формирования тезауруса личности, связующим звеном всех элементов данного ориентационного механизма выступают социальные ценности человека. Именно на основе ценностей окружающая действительность осваивается личностью с разделением фрагментов реальности на «свое» и «чужое», образуют тезаурус – полный систематический состав знаний, необходимых для ориентации в природной, социальной и культурной среде.
Таким образом, изучение личности в социальной системе предполагает применение синтеза следующих социологических концепций и подходов:
– системный и структурнофункциональный подходы, позволяющие рассматривать личность как социокультурную систему;
– феноменолистический и деятельностный подходы, предполагающие изучение личности как активного преобразователя и созидателя социальной реальности;
– ценностный, трактующий личность как феномен духовности, как высшую форму гармонизации человеческих знаний и жизни человека.
– постструктуралистический подход, определяющий личность в качестве агента культурных практик через ее габитус и строение – фрейм;
– тезаурусный, помогающий воспроизвести культурные практики личности при ориентации в окружающем социальном пространстве.
Список литературы Личность в социологических теориях: категории, концепции и принципы изучения
- Арсенъев А. С. Философские основания понимания личности/А. С. Арсеньев. -М.: Академия, 2001.-592 с.
- Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа/А. Г. Асмолов. -М.: Смысл, ИЦ Академия, 2002. -416 с.
- Бандуровский К. В. Личность/К. В. Бандуровский//Новая философская энциклопедия. -М., 2001. -В 4 т. Т 2. -С 400-410.
- Бергер П. Л. Личностно-ориентированная социология/П. Л. Бергер, Б. Бергер, Р. Коллинз. -М.: Академический проект, 2004. -398 с.
- Беспалов Д. В. Лидерство как возможность самовыражения и раскрытия творческого потенциала личности/Д. В. Беспалов//Пятые Илиадиевские чтения: Бытие и культура. История и современность: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (г. Курск, 12-13 мая 2004 г.). -Курск: МУ Изд. Центр ЮМЭКС, 2004. -Ч. 2. -С. 81-83.
- Библер В. С. Образ простеца и идея личности в культуре средних веков//Человек и культура. -М., 1990. -С. 122-132.
- Бурдъе П. Начала/пер с фр. Н. А. Шматок. -М.: Socio-Logos, 1994. -288 с.
- Гайденко П. П. Индивидуум/П. П. Гайденко//Новая философская энциклопедия. -М.: Наука, 2001 -В 4 т. Т. 2. -С. 342-348.
- Голубкова Л. Г. Философия управления: монография/Л. Г. Голубкова, В.М. Розин. -Йошкар-Ола: Марийский гос. техн. ун-т, 2010. -412 с.
- Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта/под ред Г. С. Батыгина, Л. А. Козловой. -М.: Институт социологии РАН; ФОМ, 2004. -216 с.
- Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки: монография/М. Н. Губогло. -М.: Наука, 2003. -364 с.
- Зиновьев А. А. Логическая социология/А. А. Зиновьев. 2-е изд., испр. и доп. -М.: Социум, 2006. -260 с.
- Зиновьев А. А. Фактор понимания/А. А. Зиновьев. -М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. -528 с.
- Кант. И. Критика практического разума/И. Кант. -М.: Аграф, 1997. -320 с.
- Клочков И. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время: Очерки/И. С. Клочков. -М.: Наука, 1983. -207 с.
- Коваленко В. А. Творчество как форма деятельности человеческого познания/В. А. Коваленко. -Обнинск, 1998. -105 с.
- Кон И. С. Социология личности./И. С. Кон. -М.: Политиздат, 1967. -288 с.
- Култыгин В. П. Французская классическая социология XIX -начала XX веков/В. П. Култыгин. -М.: Наука, 1991. -526 с.
- Лекторский В. А. Объект/В. А. Лекторский//Новая философская энциклопедия. -М., 2001. -Т. 3. -С. 136-142.
- Лекторский В. А. Субъект//Новая философская энциклопедия. -М., 2001. -Т. 3. -С. 660-668.
- Луков В. А. Движение гуманитарных наук к пониманию тезауруса/В. А. Луков//Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение»/2008/№ 9 2008. -Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры. -2008. -№ 9.
- Луков В. А. Молодежь как социальная реальность/Ковалева А. П., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. -М., 1999. -С. 126-189.
- Луман Н. Общество как социальная система [Электронный ресурс]/Н. Луман. -Режим доступа: http:/inirslovarei.coin/content_fil/N-LUMAN-JBSHHESTVO-KAK-SISTEMA-12529.html. -Загл. с экрана (Дата обращения: 11.10.2012 г.).
- Розин В. М. Личность и ее изучение/В. М. Розин. -М.: Прогресс, 2004. -244 с.
- Розин В. М. Традиционная и современная философия/В. М. Розин. -М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010. -368 с.
- Социология/Сост. И. П. Яковлев. -СПб.: ИКА Тайм-АУТ, 1993. -464 с.
- Homans G. The Human Group. -N. Y.: Harcourt Brace, 1950.