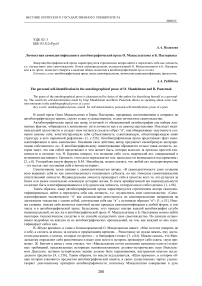Личностная самоидентификация в автобиографической прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака
Автор: Пелихова Алена Анатольевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
Жанр автобиографической прозы характеризуется стремлением автора найти и определить себя как личность, т.е. осуществить свое самотождество. Поиск самоопределения, осуществленный О. Мандельштамом и Б. Пастернаком в их прозе, позволяет говорить о наличии общих моментов в автобиографической прозе поэта.
Автобиографическая проза, поиск самоопределения, личностная самоидентификация, проза поэта
Короткий адрес: https://sciup.org/148178482
IDR: 148178482 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Личностная самоидентификация в автобиографической прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака
В своей прозе Осип Мандельштам и Борис Пастернак, предаваясь воспоминаниям и опираясь на автобиографическую память, строят и свое художественное, и свое личностное самотождество.
Автобиографическая проза как жанр, отличный от обыкновенной автобиографии как набора жизненных фактов, «обращается к жизненному пути личности как к ее самоосуществлению. Она ищет индивидуальной целостности и создает (или пытается создать) образ “я”; она обнаруживает ощутимость сознания самому себе, конституирующую себя субъективность, схватывающую, объективирующую свою структуру в акте первичной рефлексии» [1, с.226]. Автобиографическая проза представляет факт самоидентификации и цепь самооценок. Оценивая свои действия, автор предлагает своеобразную интерпретацию собственного «я». К автобиографическому повествованию обращается только такая личность, которая знает, что она собой представляет и чем желает быть, которая выходит за пределы простой единичности и осознает это. Н. Бердяев говорил, что познание себя «есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем » [2, с.8]. Употребляя емкую формулу Б.М. Эйхенбаума, можно сказать, что любой акт мемуаротворчества – это всегда «акт осознания себя в потоке истории».
Самопознание тесно связано с самоидентичностью автора. «В самоидентичности само сознание ясно выражает себя не как самоотнесенность познающего субъекта, но как этическое самоутверждение ответственной личности. Индивидуальная личность проецирует себя в качестве кого-то, кто ручается за более или менее сознательно освоенную историю жизни. В свете приобретенной им индивидуальности он желает быть идентифицированным и в будущем как личность, которую она из себя сделала» [1, с.88].
Таким образом, жанр автобиографической прозы характеризуется стремлением автора самоидентифицироваться, найти и определить себя как личность, т.е. осуществить свое самотождество. «Самоидентификация человеческого “я” как комплексная деятельность по самоопределению направлена на достижение тождества с самим собой, соотнесения себя как “я” с истинным образом “я”« [1, с.51]. Иными словами, поиски себя являются конечной целью процесса самоидентификации в любой форме, в том числе и в автобиографической прозе. Безусловно, этот процесс внутри каждой автобиографии сугубо индивидуальный, но все же в автобиографической прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака можно найти некоторое типологическое сходство в их способе осуществить свое самотождество. Но сначала остановимся подробнее на каждом из их автобиографических произведений, на том, как каждый из них идентифицирует себя в них.
В «Шуме времени» в главе о Комиссаржевской О. Мандельштам пишет: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени… Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова» [3, с.64]. Можно сказать, что Мандельштам определяет себя разночинцем и ищет свое место в истории, проецирует себя сквозь «шум времени». Ж. Бенчич в связи с этим считает, что «Мандельштам почти спонтанно выполнил одно из основных требований, предъявленных историкам основоположником духовно-исторических наук Вильгельмом Дильтеем: истинно историческое знание должно быть переживанием, внутренним опытом исследуемого предмета» [4, с.156]. Таким образом, по мысли исследователя, «Шум времени», в котором общая история становится предметом автобиографической памяти, в своих существенных чертах удовлетворяет дильтеевскому критерию автобиографичности, поскольку Мандельштам совершенно в духе дильтеевского рецепта «приводит в свое сознание все человеческие субстраты и исторические связи, в которые он вплетен», превращая автобиографию в историческую картину. Получается, что Мандельштам намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, – поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон.
Но рассматривать автобиографическую прозу Мандельштама только как картину эпохи было бы недостаточно, поскольку мучительный поиск «разночинцем» своего места в мире является вторичным и производным от поиска и самоопределения своего поэтического бытия. Американский ученый С. Браун считает, что Мандельштама можно было бы сравнить с человеком, зачарованно рассматривающим свой собственный музей восковых фигур, музей своего прошлого, в котором все экспонаты бережно хранятся под стеклом – от исаковского издания Пушкина, братьев Крупенских, отличных «знатоков вина и евреев», до Эрфуртской программы Карла Каутского. А в стекле, которое, с одной стороны, отделяет писателя от того, что он описывает, отражается, с другой стороны, и образ самого писателя [4, с.158]. Это высказывание надо понимать как отражение, проекцию личности автора на его творчество, на все, что он делает. Мандельштам поэтому и занимается историей, чтобы понять прежде всего самого себя и свое положение, т.е. ищет свое самотождество.
Мандельштам обращается к автобиографической памяти, занят своим прошлым прежде всего вследствие возможного «кризиса самотождества как признака нарушенных отношений между личностью и миром» [4, с.159]. О том, что Мандельштам в середине 20-х гг. переживал критические моменты, есть много свидетельств: кризис в обществе, пережившем опыт революции и войны, не мог не отразиться на тонкой поэтической личности.
В «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам есть глава, описывающая внутреннее расстройство писателя и относящаяся именно к периоду начала его работы над «Шумом времени». Название этой главы – «Переоценка ценностей» – лишний раз подтверждает наличие кризиса у О. Мандельштама, поскольку, по мнению психологов, именно моменты кризиса характеризуются поисками личностью каких-то решений, анализом и переоценкой своих собственных убеждений и ценностей. Под переоценкой ценностей Н.Я. Мандельштам подразумевает мыслительный процесс, который в начале 20-х гг. захватил большую часть русской интеллигенции и, по мнению властей, должен был привести к радикальному отказу от старых ценностей и безусловному принятию новых. Но Мандельштам в силу внутренних убеждений не мог принять «новое», хотя жизнь не позволяла закрывать на это «новое» глаза – революция была свершившимся фактом. По свидетельству Н.Я. Мандельштам, в середине 20-х гг. имя Мандельштама практически исчезает со страниц солидных литературных журналов, его рукописи не принимаются в печать, единственным источником доходов становятся переводы. Оказавшись в творческой изоляции, Мандельштам начал сомневаться в собственном поэтическом даровании и важности этого дарования для других, в возможности существования адекватного ему читателя. В стихах, которые еще писались, поэт видит себя лишь как «больного сына века», который пытается творить для «племени чужого». Не удивляет поэтому, что человек, который «потерял себя» («1 янв. 1924»), в период с 1926 по 1930 г. не написал ни одного стихотворения. «Двадцатые годы, может, самое трудное время в жизни О. Мандельштама, – писала Н.Я. Мандельштам. – Никогда, ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, Осип Мандельштам с такой горечью не говорил о своем положении в мире». «Освобождение, – продолжает она, – пришло через прозу… Именно эта проза расчистила путь стихам, определила место О.Мандельштама в действительности и вернула чувство правоты» [5, с.185].
Воспоминания Н.Я. Мандельштам дают свой ответ на вопрос о причинах обращения поэта к прозе. В случае с Мандельштамом, по воспоминаниям близкого человека, это кризис личности, вызванный внешними обстоятельствами. Пропасть между поэтом и миром углубилась, поэтическое общение с читателями свелось к обращению, бесполезному и безответному, к «племени чужому». Мандельштам выбрал литературный жанр, который некоторые исследователи понимают прежде всего как форму автокоммуникации, как «путь», с помощью которого человек может вступить во взаимоотношения с самим собой. Анализируя свое отношение к прошлому, писатель, по сути дела, утверждал свою позицию и находил то, на чем будет твердо стоять, как указывает его жена.
В «Шуме времени» в процессе автобиографического припоминания исторических событий, прошедших во времена его детства и молодости, Мандельштам определяет свою личностную позицию, которую он будет отстаивать до конца жизни – позицию интеллигента-разночинца. Все места и люди, которых писатель помнит как истинный толчок к своему внутреннему развитию, пронизаны разночинным духом: от Тенишевского училища и учителя русской словесности у В.В. Гиппиуса с его глубоко личным и страстным отношением к выдающимся представителям русской литературы до круга семьи Синани и рано умершего друга Бориса с его почти святой стойкостью и чистотой (главы «Тенишевское училище», «Семья Синани» и «В не по чину барственной шубе»). Быть разночинцем для Мандельштама значит примириться со своим внесословным положением, отказаться от борьбы за место в официальной культуре своего времени и, служа не только официальным, но и культурным ценностям вообще, обрести полную внутреннюю свободу.
Проза О. Мандельштама иногда получает более низкую оценку, чем его стихи, поскольку она практически вынуждена была зародиться из-за депрессивного состояния поэта, под давлением внешних обстоятельств. Тем не менее, именно проза привела опять к стихам и, поскольку создавалась гениальным поэтом, просто не могла быть хуже, чем его стихи. Она именно проза поэта, пусть и появившаяся под воздействием внешних факторов, но тем не менее помогшая разрешить внутренний кризис личности, найти свое самотождество, самоопределение и вновь вернуться к стихам.
Итак, О. Мандельштам в своей автобиографической прозе идентифицирует себя как разночинца, который ищет свое самотождество не в узком кругу семьи, а как изгой высоких общественных кругов формирует его во всеохватывающем и оглушительном «шуме времени». Одновременно с личностным самотождеством Мандельштам ищет и свою собственную повествовательную технику (поскольку «Шум времени» – его первое прозаическое произведение), на которой основывается своеобразие его прозы, или, говоря другими словами, его художественное самотождество.
У Б. Пастернака несколько иная ситуация обращения к автобиографической прозе, поскольку «Охранная грамота» писалась позже, чем «Шум времени», к тому же это не было первым прозаическим произведением Пастернака. Тем не менее он также обращается к своему прошлому с целью показать историю своего становления, самоопределения, самотождества. «Охранная грамота» стала отражением того, как жизнь перетекает в творчество. О ней сам Пастернак писал: «…это первая вещь, которую я без стыда увидал бы в переводе. Это – ряд воспоминаний. Сами по себе они не представляли бы никакого интереса, если бы не заключали честных и прямых усилий понять с их помощью, что такое культура и искусство, если не вообще, то хотя бы в судьбе отдельного человека» [6, с. 811].
Для того чтобы определить себя, свою стезю, Пастернак обращается к «чужим» биографиям («Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая»). «Охранную грамоту» в этом отношении можно понять как трактат о чужой творческой гениальности: гением музыки является Скрябин, гением философии – Коген, а гением поэзии – Маяковский. При этом автобиографический субъект как бы вполне оттесняет себя, занимая «нулевую позицию» по отношению к «чужим биографиям “гениев”» [7, с.168]. Весьма интересным представляется отношение автобиографического субъекта, т.е. автора, к отдельным носителям гениальности. Как правило, вначале он как бы целиком вовлечен в орбиту гениальных личностей (Скрябин, Коген, Маяковский), он, завороженный и восхищенный ими, не может достаточно выразить своего восхищения. Но потом он как будто разочаровывается в них, обнаруживает их неполноценность, а в конце – и совсем от них отделяется, находя собственную дорогу.
Стремление к поэзии, самоопределение в ней является конечной целью «Охранной грамоты». Уже в момент разрыва с музыкой, т.е. в момент раннего перехода личности в «новую веру», что-то в нем «подымалось», «рвалось» и «освобождалось». Конечной целью этого стремления была не философия. Он скрывал от друзей, что порывает с музыкой, но «занимался с основательным увлечением» философией, «предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу». По мнению исследователя Й. Ужаревича, «Охранная грамота» укладывается в некую формулу: музыка – тезис, философия – антитезис, поэзия – синтез; при этом философии отводится роль того диалектико-телеологического момента в развитии духовной жизни (точнее, биографии), без которого нет окончательного «синтеза». Очевидно, что философия существенна для Пастернака в отрицательном смысле, т.е. как диалектическое отрицание в процессе развертывания духовной биографии, однако такое, которое должно было заполнить возникшую «пустоту» в подобном процессе. В этом нетрудно убедиться, если учесть, что главную роль в философской части «Охранной грамоты» занимает любовная история. Философский период совпадает с периодом жизненно-возрастного созревания, приведшего к духовной зрелости. Такие периоды в жизни являются следствием кризиса личности. Но самыми главными отношениями, позволившими найти поэту свой путь, самоопределиться, являются отношения с Маяковским, а также отношение к нему. В гениальности Маяковского Пастернак не сомневался: «Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой так потрясла его, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости» (6, с.246).
Фатальное значение для поэтической судьбы Пастернака Маяковский приобрел в тот момент, когда Пастернак, прослушав поэму «Война и мир», осознал «свою полную бездарность». «Если бы я, – пишет он по поводу этого, – был моложе, я бросил бы литературу… После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз» [6, с. 227]. Пастернак, видя свою похожесть на Маяковского («у нас имелись совпаденья…»), ищет другой метод путем отказа от предыдущего: «Я отказался от романтической манеры». Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров» [6, с. 227]. Но во всех этих рассуждениях и воспоминаниях о музыке, философии и поэзии есть особая пастернаковская установка. Вся «Охранная грамота» посвящена феномену гениальности и гениев в разных областях искусства и духа. Скрябин, Коген и Маяковский – это те художники, которые в форме внешней природной и духовной среды-пищи существенно определили судьбу и духовно-творческий облик самого Пастернака. Восхищаясь «гениями» и одновременно занимая критическо-внешнюю позицию по отношению к ним, Пастернак как будто опосредованным (неявным) способом выдвигает мысль о собственной гениальности (только гений может понять гения). «Мысль о “себе” у Пастернака всегда прочно скрыта множеством мыслей и высказываний о “нем” (или о “них”), – пишет Й. Ужаревич. – В этом смысле для раннего Пастернака очень характерна реляция он как я (или он > я), где “я” все время переходит в “он”; маскируется “ими”, т.е. окружающим миром, через который опосредованно и дает о себе знать “нулевая” позиция “я”« [7, с.221]. Если иметь в виду этот пастернаковский прием, то станет более ясным следующее высказывание из «Охранной грамоты»: «Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском… В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт» [6, с. 266]. Эта потребность Пастернака приходить к себе и понимать себя через «чужое», «другое», т.е. посредством окружающего мира, является «одной из фундаментальных особенностей как его по-эзии/поэтики, так и его жизни/биографии» [7, с. 173]. В этой потребности видится близость Пастернака Мандельштаму, по крайней мере, в том, что касается его биографии и способа идентифицировать себя через посредство окружающего мира, через историко-культурные события в жизни своей и страны. Е.В. Степанян также заметил, что «коренное качество Пастернака – человека и художника, пронизывающее его творчество, судьбу, отношения с людьми, одним словом, все стороны его внешней и внутренней биографии, сводится к “утверждению чужого бытия”; причем зачастую чем отличнее это бытие, его способ, его форма от личного бытия поэта, тем утверждение, обращенное к нему, горячее и безоговорочнее. Пастернаковское “ты еси” обращено к миру, другой личности, чужому художественному стилю, иному, чем поэзия, роду искусства… Все чужое и непохожее поражает и, в конце концов, – в большинстве случаев – понимается как родное свое» [8, с.62].
Еще ранее Р. Якобсон это свойство пастернаковского творчества объяснял тем, что «его лиризм, в прозе и поэзии, пронизан метонимическим принципом, в центре которого – ассоциация по смежности… Первое лицо отодвигается на задний план… Так, в пастернаковском лиризме образы внешнего окружения оказываются отброшенными бликами, метонимическими выражениями лирического “я”« [9, с. 329]. Этот принцип, по мнению Р. Якобсона, Пастернак переносит на искусство вообще: слишком он убежден в том, что лучшие произведения искусства, повествуя о чем угодно, «на самом деле рассказывают о своем рождении». Тот же самый принцип, как мы видели ранее, лежит в основе автобиографической прозы Пастернака, и, как он пишет, в основе биографии любого поэта: «Поэт… немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт не живое, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний… Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми» [6, с. 227].
Необходимо отметить, что Пастернак написал еще одну автобиографическую книгу о том же промежутке времени – «Люди и положения», но первая, «Охранная грамота», осмысляет первую половину жизни, где чувствуется драматизм становления поэтического начала, все еще неуверенное созревание поэта. Она написана еще молодым человеком, как и «Шум времени» Мандельштама, а вторая книга прозы пишется с точки зрения почти завершения человеческой жизни, когда поэзия уже давно утвердилась, драматизм поиска исчез, и это предполагает преобладание иного принципа изложения; это отношение к давно происшедшему и в культурной истории уже получившему свое место. В одном случае проявляет себя непосредственность жизни (автобиография является жизненно-творческой актуальностью), а во втором – жизненная дистанция (рассмотрение своей жизни как факта культуры и истории). В силу этих причин, а также одного и того же периода создания «Охранной грамоты» и «Шума времени», именно поиск самоопределения позволяет говорить о наличии общих моментов в автобиографической прозе по эта . В ней авторское «я» уступает место окружающему духовному и материальному миру, стремясь при этом остаться невидимым центром мира, проецируя себя либо на какие-то исторические и культурные события, как в случае с «Шумом времени» О. Мандельштама, либо на гениальность других известных людей, как в случае с «Охранной грамотой» Б. Пастернака. В поиске самотождества, необходимости преодолеть творческий и личностный кризис, желании реализовать себя в новых условиях, адаптировать себя к ним, подвести некий итог предшествующему творческому периоду видится, таким образом, определение личностной самоидентификации художника.