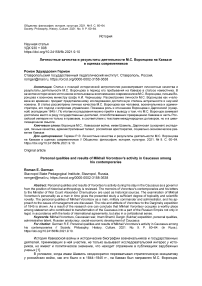Личностные качества и результаты деятельности М.С. Воронцова на Кавказе в оценках современников
Автор: Герман Роман Эдуардович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья с позиций исторической антропологии рассматривает личностные качества и результаты деятельности М.С. Воронцова в период его пребывания на Кавказе в статусе наместника. В качестве исторических источников использованы воспоминания современников М.С. Воронцова, письма Воронцова к военному министру графу А.И. Чернышеву. Рассмотрение личности М.С. Воронцова как «человека во времени» придает представленному исследованию достаточную степень актуальности и научной новизны. В статье рассмотрены личные качества М.С. Воронцова как человека, военачальника и администратора, его подход к вопросам управления. Показана роль и отношение Воронцова к Даргинской (сухарной) экспедиции 1845 г. По итогам исследования можно прийти к выводу о том, что М.С. Воронцов занимает достойное место в ряду государственных деятелей, способствовавших превращению Кавказа в часть Российской империи не только в правовом, в соответствии с текстами международных договоров, но и в цивилизационном смысле.
Воронцов м.с, кавказская война, имам шамиль, даргинская (сухарная) экспедиция, личные качества, административный талант, российская аристократия, социально-экономическое развитие кавказа
Короткий адрес: https://sciup.org/149138721
IDR: 149138721 | УДК: 930 | DOI: 10.24158/fik.2021.9.10
Текст научной статьи Личностные качества и результаты деятельности М.С. Воронцова на Кавказе в оценках современников
Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия, ,
Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia, ,
История Кавказской войны и исторические биографии военачальников и государственных деятелей, принимавших в ней участие, не только вызывают исследовательский интерес у историков, но имеют и политическое значение, что находит отражение в публикациях зарубежных ученых [1].
В условиях, когда имам Шамиль неоднократно перехватывал стратегическую инициативу у российских войск, как это было и в 1844–1845 гг., на Кавказ был направлен М.С. Воронцов.
В пользу этого назначения говорило то, что Воронцов был, согласно оценке военного историка Б.М. Колюбакина, опытным военачальником и тонким дипломатом, а также просвещенным вельможей, политиком и администратором; к минусам нового главнокомандующего на Кавказе относилось то, что он был опытным военачальником «когда-то», в прошлом, а к моменту назначения был «несколько отставшим» от военных реалий и не знал Кавказа, его особенностей и условий ведения войны в этой части империи [2, с. 221].
Что касается личностных особенностей М.С. Воронцова, то, по свидетельству лиц, общавшихся с ним, на характер Воронцова существенно повлияло воспитание, полученное в Англии, где его отец служил послом. Воронцов в делах любил методичность и требовал, чтобы окружающие так же относились к его поручениям. В бою М.С. Воронцов демонстрировал «холодную и беззаботную храбрость». Кроме того, любого военачальника характеризует отношение к солдатам. Воронцов хорошо знал качества «русского солдата», ценил его храбрость, терпение и выносливость [3, с. 283, 285].
В отношениях с людьми князь М.С. Воронцов был всегда тактичен, хорошо разбирался в человеческой психологии и с каждым разговаривал на его языке; простота в обращении и вежливость располагали к нему людей. Авторитет М.С. Воронцова, основанный на его делах в прошлом и настоящем, был столь высок, что государственный деятель не нуждался в напускном величии, как многие сановники и военачальники, и в отношениях с подчиненными и управляемыми «...не опасался никогда показывать себя человеком...» [4, с. 130, 122].
Несмотря на аристократическое происхождение и воспитание, М.С. Воронцов никогда не был рабом устоявшихся привычек, в любых условиях, «в походах и путешествиях» оставался спокойным, сдержанным и вежливым в обхождении со своим окружением. В полевых условиях князь Воронцов был невзыскателен к бытовым вопросам – пищи, помещения для ночлега; он стойко переносил лишения и неудобства походной жизни. Глядя на князя, офицеры и чиновники, сопровождавшие его, также не выказывали завышенных требований к бытовым условиям [5, с. 123].
Как администратор М.С. Воронцов обладал способностью окружать себя на службе способными людьми, трудолюбивыми и добросовестными. Сослуживец Воронцова отмечает, что людей, отмеченных такими качествами, в гражданском ведомстве было немного, более того, большинство чиновников считало казенное имущество практически «собственным достоянием» и многие из них незаконным образом обогащались за время службы на Кавказе [6, с. 287]. В вопросах службы Воронцов требовал строгого исполнения своих указаний, не терпел возражений и неисполнительности; в этих вопросах он подчас был «совершенным деспотом». Более того, М.С. Воронцов не обращал внимания ни на физическую усталость, ни даже на изнеможение подчиненного, выполнявшего его поручение. Но свое неудовольствие действиями подчиненных он выражал всегда сдержанно, в форме «язвительных намеков», а вот мнение о лице, которое не смогло исполнить или понять его указаний, в памяти Воронцова закреплялось надолго, и такому чиновнику или офицеру надо было впоследствии приложить массу усилий, чтобы изменить о себе мнение князя. М.С. Воронцов мало внимания уделял форме и внешним проявлениям, а стремился сразу выяснить суть и смысл дела [7, с. 139, 145].
Как отмечено участниками событий Кавказской войны, назначение на Кавказ М.С. Воронцова было встречено в войсках с восторгом, оценка нового командующего Отдельным Кавказским корпусом в общественном мнении была очень высокой, что было обусловлено в том числе и его участием в заграничном походе русской армии в 1812–1815 гг., и службой на Кавказе в молодые годы под началом П.Д. Цицианова.
На Кавказе и в остальной части империи ожидания от назначения Воронцова были разными: «в России» предполагали, что Воронцову удастся закончить эту непопулярную в обществе войну, чтобы затем приступить к освоению края, который должен был вознаградить за принесенные в период его завоевания жертвы; на Кавказе же все слои русского населения – и богатые, и бедные – видели в Воронцове освободителя от набегов и грабежей [8, с. 229–231].
В первой половине 40-х гг. XIX в. влияние имама Шамиля на Кавказе постоянно росло, что не могло не беспокоить высшую администрацию империи. В конце 1844 г. императором Николаем I был разработан план захвата резиденции Шамиля Дарго, состоявший всего из трех пунктов: «1) Разбить, буде можно, скопища Шамиля. 2) Проникнуть в центр его владычества. 3) В нем утвердиться» [9, с. 209]. Таким образом, решающим шагом в разгроме Шамиля должна была стать Даргинская экспедиция 1845 г., позже получившая наименование «сухарная». Воронцов, как основной ее организатор, чрезмерно увеличил штабные структуры отряда, направленного в Даргинскую экспедицию – в отряд входили штаб и «свита» предшественника М.С. Воронцова А.И. Нейдгардта, штаб и «свита» самого Воронцова, штаб командующего войсками в Дагестане генерала от инфантерии А.Н. Лидерса, командира 5-го пехотного корпуса, группа «именитой военной молодежи», которая направилась за лаврами, чинами, наградами и почестями из столицы.
Это обстоятельство чрезмерно увеличило вьючный обоз и снизило боеспособность и подвижность отряда. Отряд, силами примерно равный дивизии, имел чрезмерное количество командиров и штабных военнослужащих. Снижало боеспособность отряда и то, что он был разнородным по составу [10, с. 222].
Сам Воронцов, будучи военачальником опытным, как уже отмечалось выше, мало верил в успех порученной его командованию экспедиции, поскольку данная военная операция была «целиком изготовлена в Петербурге», без учета и понимания местных условий – военных, этнических, религиозных, топографических, общей специфики войны на кавказской окраине империи. Но реализация планов командования была непосредственным условием назначения Воронцова на должность командующего войсками на Кавказе. М.С. Воронцов, будучи опытным дипломатом, писал военному министру графу А.И. Чернышеву о том, что генералы, служащие на Кавказе, не согласны с идеей командования о переходе в наступление против Шамиля до завершения строительства Чеченской укрепленной линии, как не согласен с этим планом и сам Воронцов, но, тем не менее, он прямо заявляет о готовности выполнить приказ и Чернышеву, и своим подчиненным на Кавказе, поскольку эта экспедиция даст возможность нанести вред Шамилю. В случае неудачи экспедиции, ответственность за которую Воронцов пытается с себя снять, он предлагает возврат к «методической системе», т. е. к постепенному установлению контроля над территориями и лишь после этого к дальнейшему продвижению вглубь Кавказа [11, с. 281].
Не веря в успех экспедиции и пытаясь застраховать себя от последствий неудачи, Воронцов спустя несколько дней, вновь обращается к военному министру и пишет о том, что хоть и не верит в «большой успех» планируемой операции, но остается верным приказу, долгу и императору [12, с. 288].
«Несчастная» Даргинская экспедиция оценивается современниками как неудачный дебют правления М.С. Воронцова на Кавказе. Экспедиция не принесла ничего, кроме огромных потерь и жертв среди личного состава, имущества и вооружения, боевого духа войск, но Воронцов, как отмечают его критики, за нее был возведен в «княжеское достоинство», хотя ни цель, ни способ ее реализации не могут ни в коей мере оправдать это «предприятие» [13, с. 109]. К недостаткам командования М.С. Воронцова стоит, по мнению участников экспедиции, отнести и то, что он при планировании военных операций и принятии стратегических решений оперировал категориями европейской войны, не зная ни специфики войны на Кавказе, ни образа действий, особенностей тактики горцев. Принципиальное различие между европейской и кавказской войной заключалось в том, что в европейских войнах, когда неприятель утерял позицию, ему трудно занять ее вновь; на кавказской войне все по-другому: горцы покидали позиции при наступлении российских войск и появлялись вновь, когда экспедиционные войска отступали. Участник событий даргинской экспедиции сравнивает противника с «роем мух»: когда их сгоняют, они разлетаются и скрываются из виду, но спустя минуту они занимают прежние позиции [14, с. 209]. Можно заключить, что из трех пунктов плана, составленного Николаем I, был выполнен только второй пункт – проникновение в центр правления имама Шамиля, который оказался им оставлен. Первый и третий пункты оказались нереализованными – Шамиль не был разбит и «утвердиться» в Дарго в сложившихся обстоятельствах не представлялось возможным.
Тем не менее, было бы несправедливым и крайне опрометчивым с точки зрения логики и исторической объективности обвинять в неудачном завершении Даргинской экспедиции одного только М.С. Воронцова. Участники тех событий оценивают эту военную операцию более объективно. Отмечено, что организаторы экспедиции из военного министерства планировали ее успех при соблюдении прочности коммуникаций экспедиционного контингента войск с базой, которой должен был служить Северный Дагестан, где находились «военные запасы, перевозочные средства и продовольствие для похода в горы», что на практике не было и не могло быть в условиях Кавказской горной войны реализовано в полной мере. Отступление горцев и завлечение войск вглубь, растянутость коммуникаций, а вскоре и полное их прекращение – все это, по мнению участников событий, можно считать причиной неудачи всей экспедиции и лишений «изнуренных» войск [15, с. 291].
Как отмечают непосредственные участники Даргинской экспедиции, несмотря на неудачный итог, эта военная операция может служить поводом для гордости всех, кто в ней участвовал. Более того, при оценке экспедиции менее всего следует обращать внимание на ее неудачное завершение, поскольку экспедиция была запланирована в Петербурге таким образом, что ничем иным закончится не могла, являясь, по существу, «огромной ошибкой». Слава экспедиции основана на тех трудностях, которые сумели преодолеть войска, поставленные в отчаянное положение. Лишенные продовольствия и боеприпасов, с многочисленными ранеными, окруженные неприятелем войска, тем не менее, не потеряли присутствия духа и с честью вышли из сложившейся ситуации, насколько это было возможно в тех условиях. Такой исход обеспечили «доблесть русского солдата», его способность не падать духом в ситуации самой тяжелой неудачи, что и было продемонстрировано войсками в том числе и в ходе Даргинской экспедиции. Но, помимо доблести солдат, с честью преодолеть трудности Даргинской экспедиции позволили «высокие достоинства и опытность начальников, во главе которых стоял князь Воронцов», причем слава Даргинской экспедиции, по мнению ее участников, не меркнет даже на фоне славы защиты Севастополя [16, с. 229].
Стоит обратить внимание и еще на один важный итог трагической Даргинской экспедиции. 1845 г. стал переломным для понимания императором Николаем I и генеральным штабом необходимости коренного изменения самой стратегии войны в условиях кавказских гор, столь отличавшейся от европейских театров военных действий. После Даргинской экспедиции М.С. Воронцову Николаем I была предоставлена полная самостоятельность в области принятия решений о характере военных действий на Кавказе. Воронцов на основании этого вернулся к методу «замирения» Кавказа, которым пользовался еще А.П. Ермолов. Метод этот заключался в прорубании просек в труднопроходимых лесах для того, чтобы обеспечить войскам возможность доступа в самые отдаленные местности Кавказа, прокладывании дорог с этой же целью и возведении укреплений воль дорог, которые контролировали прилегающие территории. Такой подход позволил продвигаться вглубь Кавказа, в самые труднодоступные уголки высокогорного Дагестана и Чечни медленно и постепенно, но целенаправленно, планомерно и неуклонно [17, с. 482].
По итогам деятельности на Кавказе личность М.С. Воронцова характеризуется как «величественная фигура», оказавшаяся в роли точного исполнителя плана экспедиции, который был навязан ему из Санкт-Петербурга. Ситуация, в которой он оказался, была трудной даже для полной сложностей, «кризисов и ужасов» Кавказской войны. Но и в этой ситуации Воронцов сумел поднять боевой дух войск благодаря «олимпийскому величию», выдержке, спокойствию и «холодному мужеству» [18, с. 226].
Помимо противодействия имаму Шамилю, огромное внимание М.С. Воронцов уделял экономическому развитию территории Кавказа, которым он управлял, тем более, что в пользу этого администратора говорил его опыт освоения и экономического развития Новороссии. Князь стремился поднять развитие сельского хозяйства на новый уровень как в количественном отношении, увеличив его производительность, что было связано и с наличием в регионе войск Отдельного Кавказского корпуса, нуждавшихся в продовольствии, так и в качественном. Качественное развитие аграрной экономики Кавказа заключалось в разведении полезных растений, усовершенствовании технологий виноделия, внедрении новых способов обработки земли и повышения товарности сельского хозяйства региона, «извлечения доходов от плодородной почвы Кавказа». Для трансляции лучших практик ведения сельского хозяйства в Тифлисе функционировала образцовая ферма, а сам Воронцов снабжал всех желающих виноградными лозами из своих крымских виноградников, уделяя повышенное внимание развитию всех отраслей садоводства. При князе Воронцове началось возделывание марены (растение служило сырьем для производства красителя) в прикаспийских провинциях и на Кумыкской равнине Дагестана, отрасль стала стремительно развиваться благодаря вниманию, уделенному наместником Кавказа [19, с. 134].
В сфере внимания М.С. Воронцова были и изыскания полезных ископаемых во вверенном его управления регионе: в Имеретии был найден каменный уголь, в нескольких местностях Кавказа – нефть. Можно с уверенностью сказать, что М.С. Воронцов в период своего правления всячески способствовал развитию предпринимательства и производительных сил региона, причем его деятельность в этой сфере оценивается как «просвещенная» и «либеральная»; наместник всячески стремился убрать бюрократические препоны на пути развития частной предпринимательской инициативы [20, с. 135].
Вопросы просвещения населения на вверенной его управлению территории также входили в сферу компетенции наместника Кавказа М.С. Воронцова. По итогам поездки В.С. Толстого в Осетию в 1847 г. было принято решение о преподавании во Владикавказском училище осетинской письменности, тем более, что учебник для этого уже был составлен [21, с. 267].
Можно заключить, что в оценках современников нашли отражение черты личности и характеристика направлений и результатов деятельности М.С. Воронцова на Кавказе. В Петербурге назначению Воронцова на Кавказ придавалось большое значение, высшая администрация империи надеялась, что этом военачальнику и администратору удастся сделать то, что не смогли его предшественники на посту наместника Кавказа, а именно, устранить имама Шамиля из военно-политической жизни региона. В пользу этого назначения говорил также опыт Воронцова, факт прибытия М.С. Воронцова на Кавказ существенно поднял боевой дух войск.
В личностном плане М.С. Воронцова отличали аристократичность, выдержанность, чувство такта, давало о себе знать воспитание, полученное в Англии. В то же время он был требователен к подчиненным, добивался неукоснительно четкого выполнения своих поручений. Как администратор М.С. Воронцов для реализации своих планов прежде всего старался подобрать талантливых людей. В бою был храбр и спокоен, ценил солдат Отдельного Кавказского корпуса за их высокие боевые и нравственные качества.
Началом деятельности М.С. Воронцова на Кавказе как военачальника стала Даргинская экспедиция, разработанная в Петербурге без знания и понимания характера и особенностей лесной и горной войны. Понимал неудачность замысла Даргинской экспедиции и сам Воронцов, но не мог отказаться от командования военной операцией, санкционированной самим Николаем I. Несмотря на неудачу Даргинской экспедиции (надо признать, что шансов на успех это военное предприятие изначально имело крайне мало), М.С. Воронцов получил за нее титул князя. Современники, сослуживцы М.С. Воронцова с полной уверенностью считают, что нельзя винить в неудаче экспедиции только одного его. Более того, именно в Даргинской экспедиции войска смогли продемонстрировать свои высокие боевые и нравственные качества, а после экспедиции принципиально изменяется стратегия действия российских войск на Северном Кавказе.
Много сделал М.С. Воронцов, как отмечают современники, и для социально-экономического развития региона. Он развивал сельское хозяйство, старался сделать его более передовым и повысить уровень товарности; многое было сделано Воронцовым для развития экономики, предпринимательства и просвещения во вверенном его управлению крае. Таким образом, с полной уверенностью М.С. Воронцова можно отнести к числу государственных деятелей, чьими усилиями Кавказ стал фактической частью Российской империи, что нашло отражение в исторической памяти о периоде распространения власти России на Кавказе.
Список литературы Личностные качества и результаты деятельности М.С. Воронцова на Кавказе в оценках современников
- Hearn Matthew D. Prisoners of the Caucasus: Protracted Social Conflict in Chechnya [Электронный ресурс] // The SAIS Review of International Affairs. URL: https://saisreview.org/prisoners-of-the-caucasus-protracted-social-conflict-in-chech-nya/ (дата обращения: 01.09.2021).
- Колюбакин Б.М. Предисловие к воспоминаниям графа Константина Константиновича Бенкендорфа о Кавказской летней экспедиции 1845 года // Даргинская трагедия. 1845 год. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2001. С. 221.
- Воспоминания графа В.А. Сологуба // Исторический вестник. 1886. № 11. С. 282-293.
- Князь Михаил Семенович Воронцов. (Воспоминания князя Дондукова-Корсакова) // Старина и новизна. 1902. Книга 5. С. 120-154.
- Там же. С. 123.
- Воспоминания графа В. А. Сологуба ... С. 287.
- Князь Михаил Семенович Воронцов ... С. 139, 145.
- Воспоминания графа Константина Константиновича Бенкендорфа о Кавказской летней экспедиции 1845 года // Даргинская трагедия. 1845 год. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2001. С. 229-231.
- Записка императора Николая I о военных действиях на Кавказе // Русская старина. 1885. № 10. С. 209.
- Колюбакин Б. М. Указ. соч. С. 222.
- Письмо Воронцова графу Чернышеву, от 25 мая 1845 г. из Внезапной // Кавказский сборник, издаваемый по указанию Его Имп. Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею. Т. VI. Тифлис, 1882. С. 281.
- Письмо Воронцова графу Чернышеву, от 30 мая из Внезапной // Кавказский сборник, издаваемый по указанию Его Имп. Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею. Т. VI. Тифлис, 1882. С. 288.
- Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Русский архив. 1884. Вып. 3. С. 100-120.
- Дельвиг Н.И. Воспоминания об экспедиции в Дарго // Военный сборник. 1864. № 7. С. 191-230.
- Ржевуский А. 1845 год на Кавказе // Кавказский сборник, издаваемый по указанию Его Имп. Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею. Т. VI. Тифлис, 1882. С. 279-312.
- Дельвиг Н.И. Указ. соч. С. 229.
- Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. 592 с.
- Колюбакин Б. М. Указ. соч. С. 226.
- Князь Михаил Семенович Воронцов ... С. 134.
- Там же. С. 135.
- Из служебных воспоминаний В.С. Толстого. Поездка в Осетию в 1847 году // Русский архив. 1875. № 7. С. 266-267.