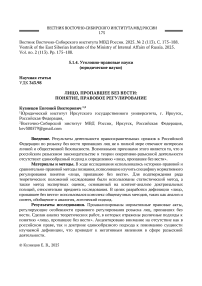Лицо, пропавшее без вести: понятие, правовое регулирование
Автор: Кузнецов Е.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Результаты деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации по розыску без вести пропавших лиц не в полной мере отвечают интересам личной и общественной безопасности. Возможными причинами этого является то, что в российском разыскном законодательстве и теории оперативно-разыскной деятельности отсутствует единообразный подход к определению «лицо, пропавшее без вести». Материалы и методы. В ходе исследования использовались историко-правовой и сравнительно-правовой методы познания, позволившие изучить специфику нормативного регулирования понятия «лицо, пропавшее без вести». Для подтверждения ряда теоретических положений исследования были использованы статистический метод, а также метод экспертных оценок, основанный на контент-анализе доктринальных позиций, относительно предмета исследования. В целях разработки дефиниции «лицо, пропавшее без вести» использовался комплекс общенаучных методов, таких как анализ и синтез, обобщение и аналогия, логический подход. Результаты исследования. Проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие особенности правового регулирования розыска лиц, пропавших без вести. Сделан анализ теоретических работ, в которых отражены различные подходы к понятию «лицо, пропавшее без вести». Акцентировано внимание на отсутствие как в российском праве, так и доктрине единообразного подхода к пониманию сущности изучаемой дефиниции, что приводит к негативным явлениям в сфере разыскной деятельности. Выводы и заключения. Закрепленные легально, а также разработанные в теории оперативно-разыскной деятельности понятия «лицо, пропавшее без вести», имеют отдельные недостатки. В связи с этим предложено авторское определение, указанной дефиниции, устраняющее выявленные пробелы. При этом предложены конкретные пути легального закрепления в оперативно-разыскном законодательстве, сформулированного понятия. Последний шаг может оптимизировать деятельность правоохранительных органов по розыску лиц, пропавших без вести. Ключевые слова: лицо, пропавшее без вести, разыскная деятельность, федеральный розыск, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия, причины исчезновения граждан, несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи или специализированного учреждения, лицо, утратившее связь с близкими родственниками.
Лицо, пропавшее без вести, разыскная деятельность, федеральный розыск, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия, причины исчезновения граждан, несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи или специализированного учреждения, лицо, утратившее связь с близкими родственниками
Короткий адрес: https://sciup.org/143184501
IDR: 143184501 | УДК: 343.98
Текст научной статьи Лицо, пропавшее без вести: понятие, правовое регулирование
Одним из традиционных направлений деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД) является розыск лиц, пропавших без вест и6. Несмотря на ежегодное снижение количества разыскиваемых лиц данной категории, их число продолжает быть достаточно внушительным, так, в 2020 году в федеральном розыске находилось 41901 граждан, в 2021 году – 40349, в 2022 году – 3851 77. При этом нельзя не учитывать латентную составляющую деятельности в сфере регистрации фактов безвестного исчезновения граждан. Как отмечает Е. В. Буряков, правоохранительные органы не всегда владеют информацией о «реальном» исчезновении одиноких людей, по разным причинам утративших и/или не поддерживающих родственные связи [1, с. 7]. Затруднительным является и определения точного числа пропавших граждан в ходе военных конфликтов, в том числе Специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине.
Несмотря на уменьшение числа объявляемых в розыск лиц, указанной категории, результативность обнаружения лиц, пропавших без вести, за последние 8 лет снизилась более чем в два раза. Так, с 2015 по 2017 гг. ежегодно обнаруживалось порядка 48-49 % лиц, значившихся в розыске, то в 2018 году этот показатель составил 20 % (см. данные, приведенные в 7-ой графе таблицы 1).
Таблица 1
Результаты деятельности правоохранительных органов в сфере розыска лиц, пропавших без вести, с 2015 по 2024 гг.
|
Ct о =s sc
|
CO О S О ® 3 is e ° a « SC ф ° н 4 & ф sc sr Л ’ н T о м S и О ч „ ф s п й Ь и о со з о СО w О |
В том числе |
а к о со о а |
В том числе |
а ф SC « £ 2 о ® S ф а х ф Я с а 2 2 ь ж О о |
||||
|
я со 5 я S о $ 3 ° О |
я “ g 2 а К н и й CN а к с « н и л 3 к ю ^ с ° о К И ® “ 3 Я- « О Д U w Я 2 н Л со о с я ° |
sc S Ф о Я я я я О S sc « СВ и сВ и а |
с 5 « св sc а « К а Я а 8 « § а 2 g ь S 3 ® а ф ф й О 3 « a g 8 |
Из них |
|||||
|
■0 Ct а а я О х с 3 S SC о ф ь О |
Вс m а 2 g о s 3 аг Ф к 3 ге Р сВ о |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2022 |
38517 |
8694 |
23% |
10158 |
7561 |
20% |
5969 |
69% |
28359 |
|
2021 |
40349 |
10021 |
25% |
11289 |
8561 |
21% |
6838 |
68% |
29060 |
|
2020 |
41901 |
10595 |
25% |
12338 |
9481 |
23% |
7287 |
69% |
29563 |
|
2019 |
49785 |
17372 |
35% |
19282 |
15388 |
31% |
13250 |
76% |
30503 |
|
2018 |
76217 |
35787 |
47% |
44426 |
33545 |
44% |
32123 |
90% |
31791 |
|
2017 |
83923 |
41714 |
50% |
44231 |
40748 |
49% |
38963 |
93% |
39692 |
|
2016 |
88751 |
44227 |
50% |
46710 |
42937 |
48% |
40887 |
92% |
42041 |
|
2015 |
92598 |
46508 |
50% |
48176 |
45197 |
49% |
43001 |
92% |
44422 |
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости акцентуации внимания на различных проблемах розыска без вести пропавших лиц. Среди них следует выделить и тот факт, что в настоящее время в Российской Федерации, применительно к федеральному розыску, законодательно не закреплено понятие «лицо, пропавшее без вести», что в практической деятельности приводит к трудностям, связанным с необходимостью отграничения указанной дефиниций от смежных категорий, например, от таких как «лицо, утратившее связь с близкими родственниками,» или «несовершеннолетний, самовольно ушедший из семей». Относительно обозначенной дефиниции нет единства и в теории оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД) о чем будет указано ниже.
Приведенные обстоятельства, на наш взгляд, отрицательно сказываются на эффективности практической деятельности, осуществляемой в сфере розыска лиц, пропавших без вести, так как создают почву для злоупотреблений в разыскной сфере. Например, используя указанный правовой и теоретический пробел сотрудники правоохранительных органов получают возможность манипулировать статическими данными, в угоду конъюнктурных интересов, в том числе, как отмечает Т. А. Малыхина, стремления контролировать показатели уровня преступности [2, с. 104–105], а также отказывать родственникам в активном розыске их пропавших близких оперативно-разыскными методами и средствами.
Вышеуказанное свидетельствует о существовании потребности в изучении и раскрытии вопроса, посвященному указанному понятию и его правовому регулированию.
Обращаясь к дефиниции «лицо, пропавшее без вести» следует отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации на уровне нормативных правовых актов она нашла свое легальное закрепление только в Договоре государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г .8 (далее – Договор о межгосударственном розыске), ратифицированном федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 87-ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц »9.
Согласно ст. 1 указанного международного соглашения пропавшим без вести следует считать лицо, в отношении которого в компетентный орган поступило заявление или сообщение об исчезновении. При этом под компетентным органом понимаются органы, уполномоченные в соответствии с национальным законодательством вступать в сношения по вопросам межгосударственного розыска лиц и принимать решения об объявлении (прекращении) межгосударственного розыска и/или его осуществлении.
Рассматривая вышеобозначенную дефиницию следует отметить, что в ней весьма расширительно раскрывается содержание исследуемого понятия. Из чего следует, что в России должностные лица территориальных ОВД, в структуре которых имеются подразделения уголовного розыска, чьи сотрудники наделены правом готовить документы для начала производства межгосударственного розыска, должны автоматически, с момента поступления к ним информации о безвестном исчезновении гражданина, считать его без вести пропавшим. Вряд ли такое понимание рассматриваемой категории следует считать правильным, так как при буквальном толковании указанной нормы, без вести пропавшим, лицо объявляется не компетентными сотрудниками правоохранительных органов, а субъектами разыскных правоотношений, подавшим заявление в полицию, например, родственниками исчезнувших лиц.
Таким образом, закрепленное в указанной норме положение фактически раскрывает не сущность понятия «лицо, пропавшее без вести», а описывает лишь формальный повод для принятия решения о начале разыскных действий, которые могут быть первоначальными, т. е. проводимыми с момента получения сообщения об исчезновении гражданина, и последующими, осуществляемыми после заведения соответствующего дела оперативного учета и вынесения постановления об объявлении лица в федеральный и межгосударственный розыски [3, с. 253, 262–263]. Для подтверждения данного тезиса достаточно обратиться к методу аналогии и вспомнить, например, положения ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 10 , где перечисляются поводы для возбуждения уголовного дела, к которым относится заявление о преступлении [4, с. 63], явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
Следует учитывать, что положения, закрепленные в Договоре о межгосударственном розыске, имеют ограниченную сферу регулирования и могут использоваться лишь в случаях начала производства межгосударственного розыск а11, ведущегося только на территории стран – участников Содружества Независимых Государств, подписавших и ратифицировавших указанный нормативный акт.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что понятие «лицо, пропавшее без вести», закрепленное в Договоре о межгосударственном розыске, не вносит ясности в сущность данной категории и при этом имеет ограниченную сферу правового регулирования. Указанное свидетельствует о необходимости дальнейших рассуждений.
Обращаясь к теории следует отметить, что российскими учеными, как правило, специализирующимися на ОРД, неоднократно предлагались различные трактовки исследуемого понятия. Многочисленные мнения по данному вопросы достаточно подробно описаны в исследовании Е. В. Бурякова, при этом ученый, на основе проведенного анализа предложил собственное определение. Согласно его позиции, без вести пропавшим следует считать «физическое лицо, в отношении которого в органы внутренних дел поступили сведения о внезапном, без видимых к тому причин исчезновении, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными, и для его обнаружения необходима специальная розыскная деятельность» [1, с. 10].
Одним их ключевых признаков данного понятия, на наш взгляд, является указание на обстоятельства исчезновения лица, которые, по мнению ученого, включают «внезапность исчезновения» и «отсутствие видимых причин к этому». Данная позиция автора является весьма традиционной. Схожие теоретические конструкции предложены во многих научных работах [5, с. 299; 6, с. 26]. При этом данный признак с 1998 по 2018 годы был закреплен нормативно в Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России от 5 мая 1993 г. № 213дсп (с изм. от 13 ноября 1998 г.), утратившей свою силу 1 марта 2018 г. в связи с принятием нового закрытого межведомственного приказа, регламентирующего правила розыска и идентификации отдельных категорий лиц [7, с. 89].
Нельзя не согласится с тем, что выделенные Е. В. Буряковым и другими исследователями признаки наиболее «удачно» и точно соответствуют смыслу словосочетания «пропал без вести». Анализ правоприменительных ситуаций, связанных с исчезновением граждан, действительно свидетельствует о том, что во многих случаях родственники не могли назвать понятные причины исчезновения их близкого и сам факт его пропажи для них стал неожиданностью [8, с. 42–43]. В качестве примера можно привести решение Советского районного суда г. Махачкалы, в котором констатировалось, что мужчина, являвшийся родственником лица, обратившегося в суд, ушел более пяти лет назад на работу, но домой так и не вернулс я12.
Несмотря на общепринятость вышеуказанной позиции, приведенная конструкция рассматриваемого понятия имеет определенную пробельность. В частности, в нем в качестве признака лица, пропавшего без вести, приводится лишь одна ситуация – исчезновение лица в силу неизвестных и неожиданных (внезапных) для его близких лиц причин. На самом же деле пропажа граждан нередко происходит и при относительной очевидности причин их исчезновения, обусловленной нахождением в ситуации, связанной с риском для жизни и/или потерей связи с близкими. Например, физические лица зачастую попадают в эпицентры природных или техногенных катастроф, участвуют в военных действиях, пропадают в природных условиях во время научных или туристических экспедиций, сборов дикоросов, охоты и т. п. Примером подобной ситуации может быть судьба трех туристов, пропавших в 2024 году в Охотском море, чья лодка с одним лишь выжившим была обнаружена после 67 дней автономного дрейфа [9].
В приведенных выше ситуациях причины исчезновения, как правило, достаточно предсказуемы и понятны. При этом высокая вероятность гибели исчезнувшего в ходе военных действий и катастроф или то, что он заблудился или по иным очевидным причинам не может выйти на связь из отдаленных и труднодоступных мест не должна является основанием для правоохранительных органов не объявлять данное лицо, как минимум, в федеральный розыск и фактически не осуществлять его, хотя бы с использованием лишь сигнальных систем разыскных и иных учетов правоохранительных органов13.
Учитывая изложенное невключение в содержание исследуемого понятия перечня очевидных причин исчезновения граждан, может расцениваться как обстоятельство, позволяющее полиции не признавать исчезнувшего в качестве лица, пропавшего без вести. Следствием этого может быть то, что попавшее в беду лицо фактически «теряет право на свой розыск» методами, предусмотренными оперативноразыскным законодательством, которые в эру развития цифровых технологий стали весьма эффективными. В частности, достаточно вспомнить положения ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности »14 (далее – ФЗ об ОРД), предусматривающей возможность обнаруживать место нахождение пропавшего без вести путем снятия информации с технических каналов связи.
В дополнении к вышесказанному следует отметить, что гражданское законодательство, регулируя вопросы объявления гражданина умершим, в ч. 1 ст. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации 15 фактически признает лиц, исчезнувших «…при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая…», в том числе военнослужащий и иных граждан, место нахождение которых не известно в связи с военными действиями (ч. 2 ст. 45 ГК РФ), без вести пропавшими.
Учитывая вышеизложенное, использование в понятии «лицо, пропавшее без вести» в качестве обязательного признака его внезапность исчезновения и отсутствия к этому причин, не отвечает потребностям общества, так как создает неопределённость в правом регулировании обязанностей государственных органов по обеспечению розыска лиц, исчезнувших при очевидных обстоятельствах.
Существует и иная, достаточно распространенная точка зрения на исследуемое понятие. В частности целый ряд исследователей под без вести пропавшими понимают лиц, исчезнувших внезапно без видимых к тому причин, местонахождение которых для окружающих неизвестно, в том числе несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из центров временного содержания и специальных образовательных учреждений; психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения, а также утративших связь с близкими родственниками [10, с. 12; 11].
Как можно заметить данное понятие тесно коррелирует с вышерассмотренной позицией, так как оно включает в свое основание уже рассмотренные признаки внезапности и отсутствия видимых причин. Однако отличительной особенностью процитированного определения является то, что ученые, используя союз «в том числе», который служит для присоединения определенных элементов к его более общей части, тем самым отождествляют без вести пропавших с другими категориями разыскиваемых ОВД лиц, перечень которых закреплен п. 12 ч. 1 ст. 12 (Обязанности полиции) Федерального закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции »16 (далее – ФЗ «О полиции»). При этом следует отметить, что после преобразования милиции в полиции и изменения правовой основы разыскной деятельности с 2018 г. розыск государственными органами лиц, утративших связь с близкими родственниками, фактически утратил свою легитимность выйдя за рамки правового поля, о чем нами упоминалось в предыдущем исследовании и отстаивалась мнение о необходимости закрепить в качестве самостоятельной обязанности полиции и задачи оперативнорозыскных органов розыск данной категории граждан [12, с. 96].
Позиция авторов относительно отождествления лиц, пропавших без вести, с некоторыми другими категориями разыскиваемых, например, несовершеннолетними, самовольно ушедшими из специализированных учреждений для их социальной реабилитации, нам вполне понятна. Она обусловлена пробелом в оперативноразыскном законодательстве. В частности, если не проводить указанное равенство, то органы, осуществляющие ОРД, лишаются права проводить оперативно-разыскные мероприятия для поиска целой категории граждан, упомянутых в п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции». Это связано с тем, что согласно ст. 2 (задачи ОРД) ФЗ об ОРД оперативные сотрудники с использованием методов ОРД могут осуществлять лишь розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.
В отдельной научной публикации нами уже приводились аргументы в пользу необходимости устранить указанный пробел, а также предлагались различные пути совершенствования разыскного законодательства, в том числе включение в исследуемое понятие лиц, перечисленных в п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ о полиции, и закрепление его в разыскном законодательстве [13, с. 102-103].
Таким образом, в целом соглашаясь с авторами рассматриваемого определения относительно целесообразности отождествления без вести пропавших с другими разыскиваемыми полицией лицами, не относящимися к скрывшимся подозреваемым, обвиняемым и осужденным, тем не менее хотим обратить внимание на его недостатки:
-
1. Использование в определении союза «в том числе», подразумевает, что, например, самовольно ушедшим несовершеннолетний, должен будет призываться
-
2. До момента пока в разыскное и оперативно-розыскное законодательство не будут внесены соответствующие изменения отождествлять упомянутые категории, нельзя, так как в ведомственных нормативных актах для разных категорий разыскиваемых закреплены разные процедуры их объявления в розыск, его осуществления и прекращения, что с позиции формальной логики (закона исключённого третьего) означает отсутствия знака равенства между упомянутыми дефинициями.
-
3. В перечне разыскиваемых лиц, закрепленном в п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции», многие наименования категорий разыскиваемых сформулированы не так как в рассматриваемом определении, хотя по смыслу, конечно, многие из них их подразумевают. Например, ученые используют словосочетание «несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов», а в ФЗ «О полиции» говорится о несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
только если он пропал внезапно без видимых к тому причин, что как ранее говорилось не всегда имеет место в случаях неизвестности его места нахождения.
Теоретический интерес представляет и определение, разработанное авторами модельного закона «О лицах, пропавших без вести »17. Согласно ст. 2 упомянутого рекомендательного законодательного акта стран Содружества Независимых государств, лицо, пропавшее без вести, - это человек, местонахождение которого неизвестно его родственникам и (или) который на основании достоверной информации и в соответствии с национальным законодательством (государства) объявлен лицом, пропавшим без вести, в связи с международным или немеждународным вооруженным конфликтом, ситуацией насилия или беспорядков внутри страны. На наш взгляд оно достаточно удачное, так как упоминает ключевой признак, свидетельствующий об исчезновении гражданина, а именно неизвестность его местонахождения родственникам. Однако серьезным недостатком является то, что упомянутый модельный закон регулирует отношения по розыску лиц, которые пропали без вести, лишь в ходе вооруженных внутренних или внешних политических конфликтов, что следует и из процентируемого определения. Соответственно правоотношения, возникшие со всеми другими ситуациями, данное определение регулировать не способно.
Пытаясь найти дополнительные признаки, которые должны содержаться в исследуемом определении необходимо упомянуть п. 10 Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, утвержденной приказом
МВД России, Генпрокуратуры России и СК России от 16 января 2015 г. № 38/14/ 518. В нем перечисляются более 20 обстоятельств, которые должны расцениваться как признаках совершения преступления в отношении без вести пропавшего лица. Анализирую положения упомянутого приказа следует отметить, что в содержании исследуемого определения целесообразно включать обобщенный признак, описывающий возможность исчезновения лица, по причине совершения в его отношении преступления.
С учетом сделанного обобщения попытаемся сформулировать собственное авторское понятие лица, пропавшего без вести, включив него в качестве основы, упоминание повода для начала разыскных действий, а также их основания, сформулированные в качестве указания общих состояний, причин и обстоятельств исчезновения.
Без вести пропавшим признается физическое лицо, чье место нахождение неизвестно правоохранительным органам, и в отношении которого к ним поступило сообщение о том, что оно исчезло неожиданно для его близких, или в отдаленной от населенных пунктов и/или труднодоступной местности, или при обстоятельствах, угрожающих смертью, а также дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, или по причине совершения в его отношении преступления, кроме этого без вести пропавшим следует считать несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, или специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, а также лицо, уклоняющееся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического расстройства, и лицо, утратившее связь с близкими родственниками.
Несмотря на громоздкость данного определения и сложность его восприятия, на наш взгляд, в нем получилось закрепить ключевые признаки, отражающие сущностные особенности рассматриваемой категории разыскиваемых лиц. При этом были учтены практические потребности в признании ряда разыскиваемых полиций лиц в качестве без вести пропавших. Последнее позволит органам полиции обеспечивать эффективный их поиск посредством использования гласных и негласных сил, средств и методов ОРД.
Следует учитывать, что использовать данное определение возможно лишь при условии его нормативного закрепления в разыскном законодательстве. В связи с чем предлагаем закрепить его в ФЗ об ОРД, например, в качестве примечания к ст. 2 (задачи ОРД).