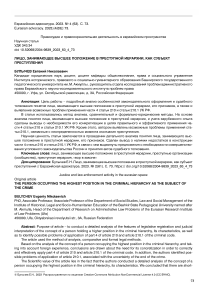Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как субъект преступления
Автор: Булычев Е.Н.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - подробный анализ особенностей законодательного оформления и судебного толкования понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, его признаков, а также и выявление возможных проблем применения части 4 статьи 210 и статьи 210.1 УК РФ. В статье использовались метод анализа, сравнительный и формально-юридические методы. На основе анализа понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и учета зарубежного опыта сделаны выводы о необходимости его конкретизации в целях правильного и эффективного применения части 4 статьи 210 и статьи 210.1 УК РФ. Кроме этого, автором выявлены возможные проблемы применения статьи 210.1, связанные с неопределенностью момента окончания преступления. Научная ценность статьи заключается в проведении детального анализа понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, его признаков. Сделан вывод о наличии недостатков в конструкции части 4 статьи 210 и статьи 210.1 УК РФ, в связи с чем выдвинуты предложения о необходимости совершенствования уголовного законодательства России и принятия актов судебного толкования.
Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, преступные организации (сообщества), преступная иерархия, "вор в законе"
Короткий адрес: https://sciup.org/140301263
IDR: 140301263 | УДК: 343.34 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_63_4_73
Текст научной статьи Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как субъект преступления
Борьба с организованной преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов современной России. Согласно статистическим данным, представленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, с 2016 по 2022 год количество преступлений, совершенных организованным группами или преступными организациями, с каждым годом растет. Так, в 2022 году было предварительно расследовано 24470 преступлений, совершенных организованной группой [1].
Данные показатели не могут не волновать общество и государство, поскольку организованная преступность состоит из профессионалов преступного мира, обладающих специальными навыками и умениями, которые позволяют им совершать преступления с большим успехом, с меньшими для себя рисками быть задержанными или привлеченными к ответственности.
До 2019 года основной нормой, направленной на борьбу с организованной преступностью, была ст. 210 УК РФ, которая установила уголовную ответственность за создание, участие в преступном сообществе. Однако, как показала практика, конструкция данной нормы не стала эффективным средством борьбы с оргпреступностью. В среднем ежегодно во всей России к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ привлекают немногим более 200 человек, причем, как правило, это рядовые исполнители или посредники, передающие указания руководителя преступного сообщества, тогда как самим авторитетам преступного мира удается избежать ответственности за создание и руководство преступным сообществом, предусмотренной ч. 4 ст. 210 УК РФ.
В 2019 году в арсенале борцов с организованной преступностью появилась новая правовая норма. Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» была введена статья 210.1, которая установила ответственность за сам факт занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Необ- ходимость введения такой нормы законодатель обосновывал тем, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами, лидеры которых координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями. Данное нововведение нацелено на создание необходимой правовой основы для привлечения к уголовной ответственности лидеров преступных сообществ, деятельность которых по руководству преступным сообществом глубоко законспирирована и труднодоказуема [2].
Помимо этого, указанный закон установил, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 и (или) ст. 210.1 УК РФ, не может быть назначено наказание ниже низшего предела или назначен более мягкий вид наказания, чем это предусмотрено данными статьями, а также исключается возможность применения условного осуждения.
Несмотря на то, что статья 210.1 УК РФ может оказаться достаточно действенной мерой в процессе борьбы с организованной преступностью, следует указать на некоторые возможные сложности ее реализации.
Во-первых, ни Уголовный кодекс РФ, ни Постановление Пленума Верховного Суда РФ не дают четкого определения «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии», его признаков.
Ряд признаков данного понятия перечислен в Постановлении от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)». Пункт 24 указанного Постановления к признакам лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, относит совершение им действий: 1) по созданию или руководству преступным сообществом (преступной организацией); 2) по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами; 3) по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов; 4) других преступных действий, свидетельствующих о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации) (например, наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями, наличие коррупционных связей) [3].
Первые три перечисленных вида действий входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ. В то же время при выявлении любого из первых трех признаков, как нам представляется, будет иметь место идеальная совокупность, то есть виновное лицо должно привлекаться сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 210 УК РФ (за совершение указанных действий) и ст. 210.1 УК РФ (за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии).
Возникает вопрос, в каких случаях ст. 210.1 УК РФ может применяться самостоятельно, автономно от ст. 210 УК РФ? Вероятно, только при совершении лицом «других преступных действий, свидетельствующих о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации)». Но данная формулировка Постановления Пленума Верховного Суда РФ весьма абстрактна и нуждается в конкретизации.
Верховному Суду необходимо разъяснить, что понимается под «занятием положения» – простой акт волеизъявления, выражающийся в принятии на себя определенной антисоциальной роли, или следующее за ним «преступное состояние». Кроме этого, требуют толкования понятия «высшее положение» и «преступная иерархия».
В научной литературе понятию «преступная иерархия» дается следующее определение: система подчиненности и взаимоотношений между лицами, входящими в криминальную среду, придерживающимися соответствующих правил и традиций.
Многие ученые выделяют одни и те же элементы преступной иерархии. Одним из примеров схемы преступной иерархии может являться схема, предложенная С. Белоцерковским, который, в свою очередь, утверждает, что высшее положение занимают «воры в законе». Воры в законе – лидеры организованной преступной среды, активные криминальные деятели, доказавшие свою верность преступным идеям, связям, соучастникам и выполняющие широкие организаторские функции в преступной среде. В преступную иерархию также входят «положенцы» – лица, у которых есть право принимать решение от имени «вора в законе» в его отсутствие, а также «смотрящие», то есть лица, наделенные правом принимать решения по определенному направлению или сфере деятельности [4].
Можно предположить, что показателем высшего положения лица в преступной иерархии является: во-первых, криминальное звание лица, с помощью которого он реально оказывает влияние на деятельность организованных преступных групп; во-вторых, установление у лица полномочий держателя преступного «общака». Таким образом, под «занятием высшего положения в преступной иерархии» следует понимать нахождение лица на самой высокой ступени в преступной иерархии, осуществляющего управление «профессиональной» преступной группой.
При совершенствовании российского уголовного законодательства необходимо использовать опыт зарубежных стран, которые ранее уже ввели уголовную ответственность для главарей преступного мира. В этой связи не может не вызвать интерес опыт соседней Грузии, Парламентом которой 20 декабря 2005 года был принят Закон «Об организованной преступности и рэкете», целью которого является содействие борьбе с организованной преступностью, «воровским сообществом» и рэкетом и их предотвращению, а также борьбе с членами «воровского сообщества» или «ворами в законе» в защиту частных, общественных и государственных интересов. В статье 3 данного закона были даны такие понятия, как «воровское сообщество», деятельность «воровского сообщества», член «воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка», «воровской сход», «имущество, добытое путем рэкета», «имущество члена воровского сообщества или вора в законе» [5, с. 52–60]. Например, согласно данному закону под «вором в законе» понимается лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) организацию «воровского сообщества» или с использованием методов деятельности «воровского сообщества» осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц [6].
Таким образом, Закон Грузии «Об организованной преступности и рэкете», закрепив основные понятия, принял необходимые меры для единообразного применения на практике норм, направленных на борьбу с организованной преступностью.
Мы убеждены, что Российской Федерации следует обратить внимание на грузинский опыт и предпринять попытки закрепления в примечании к статье 210 УК РФ или в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ определения понятия «преступная иерархия», а также уточнить признаки, по которым лицо можно считать «за- 75
нимающим высшее положение в преступной иерархии».
Имеются и другие вопросы, которые предстоит разъяснять судебным органам.
Поскольку преступление, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ, выражается длительным невыполнением обязанности не занимать (или прекратить занимать) высшее положение в преступной иерархии, его следует признать длящимся. В этой связи необходимо решить вопрос, когда данное преступление следует считать оконченным. Дело в том, что факт привлечения этого лица к ответственности и назначения ему наказания еще не дает оснований считать данное преступление прекратившимся, так как и в местах лишения свободы такое лицо вполне может сохранять за собой свой криминальный статус. Рассматриваемое преступление может закончиться либо с момента совершения действий самим виновным (например, отказ от статуса «вора в законе», явка с повинной), либо при наступлении обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее совершение преступления (смерть, тяжелая болезнь, «рас-коронование вора в законе», полная изоляция от общества).
Как видим, со стороны правоохранительных органов единственно возможным способом прекратить преступную деятельность, связанную с занятием высшего положения в преступной иерархии, может являться только обеспечение надежной изоляции осужденного. На наш взгляд, с такой задачей лучшим образом может справиться только такой вид пенитенциарного учреждения, как тюрьмы, однако ст. 130 Уголовно-исполнительного кодекса РФ не предусматривает возможность содержания в тюрьмах лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ. Нам представляется, с целью создания в местах лишения свободы условий, исключающих возможность осуществления руководства преступным сообществом, криминальных лидеров необходимо содержать в специальных тюрьмах, в связи с чем ст. 130 Уголовноисполнительного кодекса необходимо дополнить указаниями на возможность содержания лиц, совершивших преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ.
Следует отметить, что даже полная изоляция преступника от общества не дает гарантии, что он de jure лишится своего высшего статуса в преступной иерархии. Может возникнуть парадоксальная правовая ситуация: 1) если считать, что с вступлением приговора в законную силу пре- 76
ступное деяние, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ, завершено, то при получении новых сведений о продолжении обладания им статусом преступного лидера необходимо тут же возбуждать новое уголовное дело по той же статье как за новый эпизод преступления и так поступать до тех пор, пока виновный не умрет или по иным причинам не лишится своего высшего преступного статуса; 2) если признать, что обвинительный приговор и процесс его исполнения не влияют на преступный статус лица (он продолжает длиться, хотя виновный понес наказание), то, вероятно, должен действовать принцип non bis in idem. В соответствии с ч. 2 ст. 6 УК РФ лицо не может дважды нести уголовную ответственность за одно и то же преступление. Следовательно, если лицо сполна отбыло наказание по ст. 210 УК РФ, повторное привлечение его по этой статье исключено, то есть в дальнейшем оно может открыто заявлять о своем криминальном статусе. Очевидно, что подобная ситуация не соответствует ни целям наказания, ни конституционным принципам правового статуса личности [7].
В заключение отметим, что статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» является новеллой российского уголовного законодательства, требующей как законодательной доработки, так и судебных разъяснений. Последовательное совершенствование положений данной нормы позволит успешнее бороться с проявлениями организованной преступности.
Список литературы Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как субъект преступления
- Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
- Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия организованной преступности)" // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ addwork/scans.nsf/ID/E299731789056515432583A10043867F/%24FILE/645492-7_14022019_645492-7.PDF?OpenElement.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)", п. 24 // СПС "КонсультантПлюс" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/.
- Белоцерковский С.Д. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2010. № 2. С. 9-14. Цит. по: Григорьев Д.А., Морозов В.И. Как определить лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4 (30) [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kak-opredelit-litso-zanimayuschee-vysshee-polozhenie-v-prestupnoy-ierarhii.
- Гирько С.И., Белянский Е.Б. Законодательные основы оперативно-розыскного противодействия преступлениям общеуголовной направленности, совершаемым лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии // Научный портал МВД России. 2016. № 3 (35). С. 52-60.
- Закон Грузии "Об организованной преступности и рэкете" [Электронный ресурс]. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/27814?publication=1.
- Булычев Е.Н. Принцип равенства и проблемы его закрепления в Конституции Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2016. № 2 (21). С. 58-62.