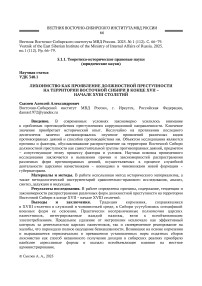Лихоимство как проявление должностной преступности на территории Восточной Сибири в конце XVII—начале XVIII столетий
Автор: Сысоев А.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях закономерно усилилось внимание к проблемам противодействия преступлениям коррупционной направленности. Ключевое значение приобретает исторический опыт. Не случайно на протяжении последнего десятилетия заметно активизировалось изучение проявлений различных видов противоправных деяний и способов противодействия им. Объектом исследования являются причины и факторы, обуславливавшие распространение на территории Восточной Сибири должностной преступности как самостоятельной группы противоправных деяний, предметом - сопутствующие этому процессу факторы и условия. Цель исследования заключается в определении причин, содержания, тенденций и закономерностей распространения различных форм противоправных деяний, осуществляемых царскими наместниками -воеводами и чиновниками новой формации - губернаторами в процессе их служебной деятельности.
Должностное преступление, взятка, кормление, лихоимство, наместник, чиновник, нажива, полномочия
Короткий адрес: https://sciup.org/143184361
IDR: 143184361 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Лихоимство как проявление должностной преступности на территории Восточной Сибири в конце XVII—начале XVIII столетий
Принято считать, что возникновение и развитие должностной преступности как самостоятельной группы противоправных деяний имеет прямую зависимость от эволюции государственной системы управления. По мнению отечественных исследователей, определенный уровень развития государственности непосредственно отражается на структуре и характере преступлений данной группы.
В этом смысле система кормлений, введенная Великими Московскими князьями как способ организации местной административной и судебной власти, послужила своеобразным конструктом для появления различных злоупотреблений в управленческой сфере. Злоупотребления эти первоначально выражались главным образом в излишних поборах с населения. В последующем появилось и их логическое продолжение – лихоимство. По определению Владимира Ивановича Даля в досоветское время этим термином обозначалось взяточничеств о1.
Лихоимство как способ противоправных деяний являлось одним из первых и наиболее распространенных видов должностной преступности в Московском государстве. Возникнувшее, по мнению русского криминалиста Константина Дмитриевича Анциферова, из понятия о превышении норм, установленных для кормленщиков, оно вылилось в понятие незаконного получения доходов должностными лицами за действия, которые они обязаны были совершать по долгу службы [1, с. 23]. Само же кормление, несмотря на земскую реформу Ивана IV, направленную на его упразднение, официально признавалось еще в течение всего XVII века. О том, что с этим же началом приходилось не только считаться, но и бороться в течение почти всего XVIII века, отмечал видный юрист Валериан Николаевич Ширяев [2, с. 79]. Злоупотребления, основанные на системе кормления, по свидетельству современников тех событий, были многочисленны и разнообразны. Они чинились как за счет местного населения, так и за счет интересов государства.
Царским наместникам – воеводам, исполнявшим судебные и административные функции, трудно было отрешиться от сложившихся за века взглядов на службу как на источник доходов. Более того, зачастую их стремление к незаконному обогащению в еще больших размерах инициировало превышение властных полномочий, сопровождавшихся насильственными действиями с целью принуждения к даче взятки. «Кормление, соединенное со злоупотреблениями, – по мнению дореволюционного исследователя Вячеслава Михайловича Грибовского, – не казалось им пороком, по существу таковым оно являлось только с точки зрения царских указов, сознанию же определенного круга людей представлялось обычным заурядным, естественным явлением» [3, с. 15].
Один из лидеров областнического движения Николай Михайлович Ядринцев утверждал, что в случае с Сибирью «все это, вырабатывалось постепенно историей и жизнью этой страны» [4, с. 470]. Практиковавшиеся изначально на протяжении XVI–XVII столетий военные формы освоения сибирских территорий находили свое искаженное отражение в дальнейшем административном устройстве края.
При переводе на гражданское управление, согласно образному сравнению Н. М. Ядринцева, «военный побор и контрибуции переходили во взятку, полон переходил в кабалу, рабство инородцев и абсолютное повиновение, требуемое завоевателем, переносилось на колониста». В итоге, по мнению ученого, «самая нажива и хищничество [стали] считаться совершенно законным, естественным в новозавоеванном крае» [4, с. 471].
Правительство же, по сведениям отечественных исследователей, «само не знало ничего о Сибири и само расписывалось в своем незнании, давая обыкновенно воеводам сибирским инструкцию: делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как будет пригоже и как бог вразумит» [5, с. 59]. При этом, как замечал Иркутский губернский воинский начальник Владимир Константинович Андриевич, мощь воевод возрастала в зависимости от отдаления их резиденций от провинциальных и губернских городов, в связи с чем «наибольшею бесконтрольностью, а следовательно, и произволом, – пользовались воеводы сибирских городов» [6, с. 71].
Естественно поэтому, по мнению русского историка Петра Михайловича Головачева, «самая отдаленная окраина России того времени – Сибирь была в наиболее безотрадном положении» [5, с. 4].
Предельное удаление от центров принятия решений порождало ощущение безнаказанности, а практически неограниченные полномочия, интегрированные жаждой наживы, вели к всеобъемлющим злоупотреблениям, когда большая часть административных ресурсов царских наместников направлялась на личное обогащение.
В одних случаях, как это было заведено у Енисейских воевод Андрея Леонтьевича Ошанина и Василия Елизаровича Голохвастова, практиковалась «отдача на откуп не только зерни и корчмы, но и безмужных жен на блуд». Причем воевода Голохвастов, как утверждал историк Иван Васильевич Щеглов, помимо «откупа рублев по 100 и больше… тем блудным женкам велел наговаривать на торговых и проезжих и промышленных людей, напрасно, для взятки »2.
В других случаях, как это сложилось в Якутске, воеводы Петр Петрович Головин и Василий Никитич Пушкин предпочитали злоупотребления в ясачном сборе, осуществляя в целях наживы как грабеж инородческого населения, так и обман центральных властей.
Используя возможность бесконтрольного обогащения на ясачном сборе, воеводы давали откуп сборщикам за взятки, позволяя последним еще большие злоупотребления в отношении инородцев. При этом, помимо махинаций с пушниной, в Якутске практиковались аресты купцов под вымышленными предлогами с последующим освобождением за взятку. По свидетельству современников тех событий, число посаженных таким образом в тюрьму доходило временами до 100 человек, а сами купцы уже не осмеливались ездить из Енисейска в Якутск, вследствие чего происходили остановка в торговле и уменьшение таможенного сбора.
Известный отечественный историк и архивист Николай Николаевич Оглоблин отмечал по этому поводу, что почти все сибирские воеводы оставили о себе дурную память в массе производившихся о них сысках. В результате исследования 106 сыскных дел XIX столетия, хранившихся в Сибирском приказе, Н. Н. Оглоблин обнаружил, что 52 дела были посвящены злоупотреблениям воевод, и сделал следующее заключение: «получается настолько яркая картина воеводского самоуправства, бесчинств и всяких злоупотреблений, ложившихся страшным гнетом на население, что можно в ужас прийти от этой картины и нужны слишком крепкие нервы, чтобы ее нарисовать» [7, с. 179].
Один из немногих способов противодействия вседозволенности царских наместников – челобитие, практиковавшийся податным населением для изобличения злоупотреблений, в сибирских реалиях за дальностью расстояний являлся малоэффективной и недейственной формой борьбы с лихоимством. Как правило, попытки подачи жалобы на неправомерные действия воевод пресекались последними самым жестоким образом. Гонцы с челобитными перехватывались на пути в Москву. Сами же «жалобщики» попадали под жесточайшие репрессии. В тех случаях, когда челобитные все-таки достигали Сибирского приказа, от момента подачи жалобы до начала расследования зачастую проходило несколько лет. При этом направляемые для смены и расследования злоупотреблений воеводы нередко и сами превосходили своих предшественников жаждой наживы.
Таким образом, одним из самых действенных способов борьбы с безудержным стремлением сибирских воевод к обогащению оставалось вооруженное противодействие на местах. Наиболее наглядно это продемонстрировала «шатость», произошедшая с властью красноярских воевод в 1695–1698 гг., когда вследствие многочисленных злоупотреблений в условиях бесконтрольности со стороны метрополии единственным выходом для жителей Красноярска оказалось смещение царских наместников при помощи вооруженной силы.
Из дошедших до нашего времени источников известно, что смута в Красноярске разгорелась благодаря лихоимству братьев Алексея Игнатьевича и Мирона Игнатьевича Башковских. Первый исправлял обязанности красноярского воеводы с 1694 по 1695 г., второй – с августа 1695 по август 1696 года.
По сведениям Н. Н. Оглоблина, не прошло и года с момента назначения А. И. Башковского, как на него «посыпались челобитья служилых, жилецких и ясачных людей, обвинявших воеводу в лихоимстве и всевозможных обидах и разорениях». Не ограничиваясь поборами с местных жителей, воевода брал «великия взятки» деньгами, товарами и «ясырем» с приезжавших в Красноярск бухарских и калмыцких торговых людей. В результате калмыцкие и киргизские «воинские люди» приходили войною на Енисейский и Красноярский уезды. В связи с этим красноярцы в своих челобитных обвиняли А. И. Башковского не только как «воеводу грабителя и разорителя», но и как изменника (в «изменном деле») [8, с. 5].
Решив в конечном счете, что с таким воеводой «жить не мочно», краноярцы подняли бунт. 16 мая 1695 года боярские дети Трифон Еремеев, Дмитрий Тюменцов, Конон Самсонов, Григорий Ермолаев и Алексей Ярлыков объявили воеводе Алексею Башковскому, что «отказывают ему от воеводства», после чего бунтующие приступили к грабежу воеводского имущества. Последнему оставалось лишь бежать в Енисейск.
Назначенный воеводой вслед за братом Мирон Башковский дознание о злоупотреблениях своего предшественника проводить не стал, а, наоборот, пригрозил красноярцам «город выжечь и вырубить». Вследствие этого спустя год был осажден бунтующими жителями города в крепости и бежал в Енисейск.
Похожая участь постигла и прибывшего 20 августа 1696 года на смену братьям Башковским стольника Семена Ивановича Дурново. Среди прочего новому воеводе было поручено произвести розыск о злоупотреблениях своих предшественников. Однако ожиданий красноярцев С. И. Дурново не оправдал. Более того, 18 октября 1697 года и самого воеводу обвинили в прямом взяточничестве. Из текста челобитной, поданной от имени 16 служилых людей, следовало, что с атамана пеших казаков Федора Кольцова, назначенного в 1697 г. для ясачнаго сбора в Канской острог, с 20 казаками, воевода взял «посулу» из их жалованья 40 руб. Столько же Дурново взял из жалованья 40 «годовальщиков», посланных на службу в Верхний Караульный острог. Попытавшегося подать челобитную на злоупотребления казака И. Трофимова воевода велел «бить батоги на смерть» [8, с. 5]. В результате Дурново с трудом удалось избежать гибели. Разъяренные красноярцы схватили воеводу и хотели топить в Енисее. Однако в последний момент передумали и посадили царского наместника в лодку, отправив в Енисейск.
Примечательно, что, по мнению Н. Н. Оглоблина, «во время шатости только у меньшинства красноярцев бродили мечты о возможности устроиться самостоятельно навсегда… большинство же мечтало об одном – об избавлении от лихих воевод». «На свои же бунты, – утверждает автор, – оно смотрело как на протесты против воеводских насилий и разорения, и как на урок зарвавшимся воеводам» [8, с. 5].
Подобные проявления народного негодования одновременно с экономическим ущербом от расхищения пушной казны и различных сборов не могли остаться без внимания правительства. Уже со второй половины XVII столетия для проведения дознаний о злоупотреблениях в Сибири стали посылаться сыщики – отдельные доверенные лица с достаточно широкими полномочиями.
Первый известный нам сибирский розыск был организован в 1665–1668 гг. Для расследования «всех воевод и таможенных голов, неправды их и плутости» из Тайного приказа в Якутск, Мангазею, Сургут, Енисейск и Красноярск направили жильца Ф. Охлопкова [9, с. 180]. В материалах Сибирского приказа сохранилась «роспись» раскрытых сыщиком злоупотреблений якутских воевод Михаила Семеновича Ладыженского и Ивана Федоровича Голенищева-Кутузова [7, с. 5].
Спустя почти тридцать лет, 21 февраля 1696 года, был объявлен именной указ об организации сыска в сибирских городах думному дьяку Даниле Леонтьевичу Полянскому и дьяку Даниле Берестову. Известно, что ревизия проводилась по инициативе и под непосредственным контролем Петра I. Сыщикам предписывалось проводить следствие в отношении тех сибирских воевод, на которых падало подозрение о злоупотреблениях и расхищении казны, махинациях с таможенными и питейными сборами.
По сведениям Н. Н. Оглоблина, «правительство придавало большое значение этому розыску и всячески ему содействовало». Неслучайным поэтому являлось участие в «большом сыске» Д. Л. Полянского, имевшего, по сведениям Натальи Дмитриевны Зольниковой, «за плечами 32 года работы в важнейших приказах государства, в том числе 20 лет в чине думного дьяка» [9, с. 181]. Результаты розыска о воеводских злоупотреблениях в Сургуте, Нарыме, Красноярске, Енисейске, Илимске и Якутске выразились в обширном материале, состоящем из 16 отдельных «сысков».
По мнению Н. Н. Оглоблина, такая энергичная деятельность сыщиков вызвала страшную ненависть против них со стороны сибирских служилых людей, выразившуюся наконец в том, что на самих сыщиков посыпались обвинения в разных злоупотреблениях [7, с. 134]. Немаловажное значение при этом имело и то, что, по мнению российского исследователя Геннадия Фёдоровича Быкони, «по отношению к красноярцам он [Д. Л. Полянский] действовал традиционно, в духе сословной корпоративности и солидарности с прежней администрацией» [10, с. 145].
В результате по царскому указу 4 декабря 1701 года сами сыщики попали под следствие и были отправлены в Сибирский приказ для допроса «относительно взведенных на них обвинений» [7, с. 135].
Вместе с тем уже в начале XVIII столетия борьба с проявлениями должностной преступности начинает приобретать более действенные формы. Издается целый ряд царских указов, направленных на ужесточение государственной политики в области противодействия незаконному обогащению царских чиновников.
Указами от 5 марта 1711 года № 2331 и от 17 марта 1714 года № 2786 вводится своеобразная система надзора, опирающаяся на деятельность фискалов, изображавших в провинциях, по выражению В. А. Андриевича, «царское око» [11, с. 91]. Руководящая роль при этом отводилась обер-фискалу, который опирался в проведении дознаний о тех или иных злоупотреблениях на подведомственных ему фискалов и провинциал-фискалов3.
Фискальская служба, по мнению отечественных исследователей Дмитрия Олеговича Серова и Александра Вячеславовича Федорова, «стала, в современном понимании, еще и органом уголовного преследования, т. е. была правомочна осуществлять процессуальную деятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». Авторы утверждают, что именно фискальской службе и «майорским» канцеляриям довелось принять на себя основную тяжесть борьбы с должностными преступлениями в ходе непрерывных реформ [12, с. 387].
Как следствие, первые громкие разоблачения крупных случаев лихоимства среди сибирских чиновников в петровскую эпоху принадлежали царским фискалам. В этой связи современный исследователь Е. В. Самарина пишет о том, что «сибирский провинциал-фискал доносил: все служащие в Сибири чиновники, да и сам губернатор, а также его служители, берут взятки и чинят разорение народу» [13, с. 12]. Вероятно, по этой причине, по сведениям Виталия Иннокентьевича Зоркина, в 1718–1719 гг. в Иркутске побывал обер-фискал Нестеров [14, с. 159].
Дальнейшим развитием законодательной базы в борьбе с лихоимством являлся указ от 25 августа 1713 года № 2707, согласно которому у тех, кто «в чем ни есть, каким вымыслом или за взятку учинил преступление», изымалось все движимое и недвижимое имущество. Сами преступники подлежали казни. Такая же санкция ожидала и тех, кто «в подкупах или в подряде судей и всяких чинов к неправде скупят посулом». При этом не оставались без внимания надзорные и судебные органы, в отношении которых особо указывалось: «Ежели кто вышеописанные вины впадшего пощадит, то сам тою казнею казнен будет »4.
Указом от 24 декабря 1714 года № 2871 «О запрещении взяток и посулов и о наказании за оные» вводился прямой запрет для всех «чинов, которые у дел приставлены больших и малых духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных» на сбор «посулов казенных и с народа собираемых денег торгом, подрядом и прочими вымыслами». Само преступное деяние в этом указе впервые стало называться «лихоимство». Наряду с уже сложившимися принципами наказания за лихоимство, помимо требования о всенародном оглашении, указ персонализировал ответственность должностных лиц, предписывая «всем у дела будучи к сему указу приложить руки »5.
Для реализации требований вышеназванного указа 20 июня 1716 года в сибирские города Сургут, Нарым, Кетск, Томск, Кузнецк, Енисейск, Мангазею, Красный Яр, Иркутск, Нерчинск, Илимск и Якутск был командирован полковник Агеевич Ельчин Яков. «На него, – пишет В. И. Зоркин, – было возложено: выяснить – чем вызывается недобор в государевых податях и ясачном сборе» [14, с. 158].
Опубликованные в 1720 г. указ № 3601 «О разных Государственных сборах, о наказании хищников за взятки лишением имения и живота» и указ № 3648 «О рачительном сборе податей и наказании за взятки» отчасти дублировал требования указа 1713 г. «О пресечении грабительств в народных сборах…» как в определенной сфере административной деятельности, так и в области санкций о том, чтобы «у таких злодеев, имение их движимое и недвижимое отписывать на Великого Государя, а их казнить смертею»6.
Такое пристальное внимание законодателей, уделявшееся проблеме распространения лихоимства, бесспорно, указывало на то, что взяточничество стояло в центре всех злоупотреблений должностных лиц петровской эпохи.
Вместе с тем, как отмечает главный научный сотрудник центра истории России XIX – начала XX века Института российской истории РАН Любовь Федоровна Писарькова, «обилие таких законов красноречиво свидетельствует как о распространенности должностных преступлений, так и безуспешности борьбы правительства с этим злом». По мнению автора, даже введение в 1715 г. фиксированного жалованья всем гражданским служащим не привело к искоренению злоупотреблений [15, с. 33].
К похожим выводам приходит и современный отечественный исследователь Анастасия Витальевна Прокопчук, которая отмечает в своей работе: «несмотря на развитие антикоррупционного законодательства, предупреждающие и контролирующие меры, предпринятые Петром Первым, не привели к существенным результатам» [16, с. 120].
Отчасти выводы Л. Ф. Писарьковой и А. В. Прокопчук подтверждаются дальнейшим развитием юридической казуистики, связанной с фактическим саботированием требований правительства на местах. В частности, как следовало из сенатского указа от 21 мая 1720 года, требования, содержавшиеся в указе от 24 декабря 1714 года № 2871, о «подписке по оному указу без всякого отлагательства» на местах не выполнялись. Сенаторы констатировали, что «из губерний такие ведомости в сенат присланы ли были, или не присланы, о том не ведомо, потому, что таких ведомостей (кроме одной Рижской губернии) в Сенате не сыскано». Таким образом, по прошествии шести лет после опубликования указа «О запрещении взяток и посулов и о наказании за оные» законодателям пришлось повторно требовать у чиновников на местах «приложения руки тем, кто у дел» к первоначально присланным указам и отсылке их в Сенат для хранени я7.
Примечательно, что саботирование требований метрополии со стороны местных администраций находило определенную поддержку в пассивном отношении самого податного населения. По сведениям Л. Ф. Писарьковой, «население, со своей стороны, безропотно воспринимало многочисленные поборы должностных лиц как обязанность кормить начальство» [15, с. 34].
В подобных условиях, как утверждал дореволюционный историк Сергей Александрович Князьков, «брали все, и комиссары, и камериры, и воеводы, и судьи, и все это признавали, когда дело доходило до следствия» [17, с. 234]. Таким образом, сложившиеся на востоке страны устои не претерпели особых изменений и в результате петровских реформ. Как отмечал П. М. Головачев, «с Петра, побор стал более утонченный и скрытый… нравы же прежних служилых людей перешли и к старым приказным, от бояр воевод к губернаторам» [5, с. 5].
Дело Сибирского губернатора князя М. П. Гагарина в этом отношении оказалось не только одним из самых крупных разоблачений петровской эпохи, но и своеобразным отражением отношения вновь вводимого чиновничьего аппарата к получению незаконных прибылей за счет службы.
В ходе следствия, инициированного сообщениями обер-фискала А. Я. Нестерова «о взятках и сибирскому народу разорении, учиненных сибирскими майорами, комендантами, комиссарами и губернатором М. П. Гагариным» 8 , асессором следственной канцелярии гвардии майора И. И. Дмитриева-Мамонова, гвардии майором И. М. Лихаревым были выявлены доказательства по 35 эпизодам злоупотреблений властью, значительная часть которых заключалась в получении взяток и крупных хищениях [18, с. 27].
В этой связи современные исследователи П. П. Баранов и А. А. Шапошников указывают, что по результатам одной только проверки бухгалтерских книг за 1713–1717 гг. князю М. П. Гагарину была предъявлена недоимка по доходам от Сибирской губернии в сумме 305 554 руб. [19, с. 180], вследствие чего по совокупности с иными проступками «не ожидая окончания разборки дел, привезенных Лихаревым из Сибири «о худых делах» Гагарина, последовало другое высочайшее повеление «повесить Гагарина на четыре месяца», что и было исполнено 16 марта 1721 года», – сообщает дореволюционный историк Георгий Ефремович Катанаев [20, с. 129].
В дальнейшей работе следствия, помимо преступлений самого князя, оказались раскрыты злоупотребления большой группы сибирских чиновников. В связи с этим уже в 1719 г. в правительственном делопроизводстве майорскую канцелярию все чаще именовали «Сибирской».
Не менее трагично завершилась и карьера другого сибирского чиновника – Иркутского вице-губернатора Алексея Ивановича Жолобова. Выходец из московских дворян, добившийся, по сведениям отечественных исследователей, высокого положения в администрации Российской империи исключительно благодаря своим качествам офицера Петровской армии, статский советник А. И. Жолобов был назначен иркутским вицегубернатором 31 января 1731 года [21, с. 569].
За время своего правления в Иркутской провинции А. И. Жолобов оставил довольно неоднозначный след. Одним он запомнился тем, что «в канцелярских делах был заобычен, а в судных разсудителен, и во время правления его колодников имелось малое число, в собрании казенных сборов был радетелен и своим старанием соборную церковь застроил». Другие знали Жолобова как начальника, чинившего «к богатым прицепки по причинам, с коих и взятки брал, также и промышленникам, у коих сроки паспортам минули, за взятки новые давал» [22, с. 140].
По сведениям иркутского краеведа Вадима Петровича Шахерова, за свое трехлетнее пребывание в должности вице-губернатора Иркутской провинции он сумел «правдами и неправдами» нажить почти 35 тыс. руб. «Своих же противников, – пишет автор, – он пытал безвинно и при пытках жег огнем» [23, с. 70].
Достаточно разносторонний анализ деятельности вице-губернатора Жолобова содержится в исследовании Михаила Олеговича Акишина. Характеризуя личность вицегубернатора, ученый отмечает у него четкое для начала XVIII в. понимание принципа законности, в связи с чем приводит факты о преследовании Жолобовым за лихоимство подведомственных воевод. Так, в отношении Нерчинского воеводы И. С. Литвинцева в 1731 г. вице-губернатором было инициировано дознание о «поборах с ясачных тунгусов, казнокрадстве и приеме в российское подданство за взятки «мунгальских выходцев». При этом самого Литвинцева, по указанию Жолобова, держали «за караулом», а его «пожитки» были конфискованы.
Другого воеводу – Ф. И. Жадовского, управлявшего якутским уездом, вице-губернатор обвинил в получении взяток с таможенников и в том, что «...делал гражданству обиды, великия взятки, неповинно людей пытал, иныя невиныя с розысков и померли». За что первоначально, так же, как и Нерченского воеводу Жадовского арестовали и содержали в канцелярии «якобы сущего злодея в чепи и в железах». Однако в дальнейшем, как пишет М. О. Акишин, «подействовали «презенты»… и Жолобов даже стал оказывать покровительство Жадовскому» [21, с. 575].
Вышеуказанные факты достаточно хорошо характеризовали своеобразное отношение вице-губернатора к взяточничеству, когда Жолобов отрицал возможность личной наживы на гражданской службе, но готов был получать подарки от подчиненных. Оправдывал он такие поборы, по сведениям М. О. Акишина, следующим образом: «Да ни один воевода в Сибирь з дарами не езживал, все за подарками приезжали, только б не утратил кто интереса. Ай и в Москве у дел кто ни есть, и в Тобольску, и везде хлеб едят» [21, с. 576].
Подобная логика послужила тому, что, исходя из показаний воеводы И. С. Литвинцева, «Жолобов оставил в России около 1500 китайских перебежчиков и поселил в Нерчинскам ведомстве, взяв подношение в 86 верблюдов и 93 лошадей…от винных подрядчиков он взял 2 350 руб., с Гранина взял 500 руб. за укрывательство убийства, с Бренчалова взял от мировой челобитной 800 руб., собрал «больша тысичи рублев» с выборных крестьянских слобод, получил за снижение ясака с трех родов тунгусов взятку «немалую» [21, с. 590].
Все эти деяния Жолобова в числе прочих злоупотреблений легли в основу следствия, начатого летом 1733 г. бригадиром Алексеем Михайловичем Сухаревым. В 1736 г. бывший вице-губернатор был вначале заключен в Петропавловскую крепость, а затем 1 июля, согласно именному указу Анны Иоанновны, казнен через отсечение головы. В числе 16 пунктов обвинений, вменяемых Жолобову, фигурировали «немалые, великие и лихоимствующие взятки», через которые он нажил 34 821 руб .9.
В современных исследованиях, посвященных деятельности первого вице-губернатора Иркутска, нет однозначных выводов о степени виновности А. И. Жолобова и причинах столь жесткого приговора. Тем не менее очевидно, что в некоторых случаях чиновник новой петровской формации Алексей Иванович Жолобов следовал старым, сложившимся со времен кормления обычаям получения излишних поборов с подведомственных ему лиц.
Традиции кормления, сохранявшиеся в XVIII столетии в служилой и чиновничьей среде, в Сибири усугублялись спецификой военных форм ее освоения. Спустя годы они нашли свое искаженное отражение в дальнейшем административном устройстве края. В результате лихоимство в сознании сибирских чиновников того времени представлялось естественным явлением, хотя и противоправным с точки зрения царских указов.
Практически неограниченные полномочия царских наместников, интегрированные жаждой наживы, вели к всеобъемлющим злоупотреблениям, когда большая часть административных ресурсов направлялась на личное обогащение. В связи с этим организация ясачного сбора, приносившего значительные прибыли даже рядовым исполнителям, превращалась на местах в личный источник доходов чиновников и выливалась не только в многочисленные взятки за саму возможность сбора налога, но и в опосредованный откровенный грабеж коренного населения.
Предельное удаление от метрополии исключало как эффективный контроль за деятельностью царских наместников, так и своевременное реагирование на жалобы, что порождало полное ощущение безнаказанности. Сосредоточение в одних руках всей полноты властных полномочий позволяло последним не только увеличивать объемы незаконного обогащения, но и инициировало насильственные действия с целью принуждения к даче взятки.
Единственный легитимный способ изобличения лихоимства – подача челобитной в сибирских реалиях за дальностью расстояний был практически недейственным. Попытки жалоб на неправомерные действия воевод пресекались последними самым жестоким образом. В тех же случаях, когда информация о злоупотреблениях все-таки доходила до центральных властей, направляемые для смены и расследования преступлений воеводы нередко сами превосходили своих предшественников жаждой наживы.
Возникшее на основе кормления и выражавшееся первоначально в превышении установленных норм податных сборов лихоимство как способ незаконного получения доходов в сибирских реалиях приобрело наиболее агрессивные формы и оказало всеобъемлющее влияние на местное администрирование. Именно этот вид должностной преступности нашел наибольшее отражение в деятельности как царских наместников воевод, так и чиновников новой формации – губернаторов и вице-губернаторов.