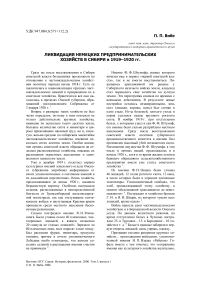Ликвидация немецких предпринимательских хозяйств в Сибири в 1919-1920 гг.
Автор: Вибе П.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736732
IDR: 14736732 | УДК: 947.084.3(571=112.2)
Текст статьи Ликвидация немецких предпринимательских хозяйств в Сибири в 1919-1920 гг.
ХОЗЯЙСТВ В СИБИРИ в 1919–1920 гг.
Сразу же после восстановления в Сибири советской власти большевики продолжили по отношению к частновладельческим хозяйствам политику периода весны 1918 г. Суть ее заключалась в национализации крупных частновладельческих имений и превращении их в советские хозяйства. Практически все они находились в пределах Омской губернии, образованной постановлением Сибревкома от 3 января 1920 г. 1
Вопрос о размерах таких хозяйств не был четко определен, поэтому к ним относили не только действительно крупные хозяйства, имевшие по несколько тысяч десятин земли, большое количество скота и инвентаря и широко применявшие наемный труд, но и, зачастую, весьма средние по сибирским масштабам частновладельческие хозяйства, имевшие несколько сотен десятин земли. Особое внимание органы советской власти обращали на отдельно расположенные хозяйства, опасаясь их расхищения окрестным населением и самовольного захвата им земли.
Уже в декабре 1919 г. подотдел охраны культурных имений земельного отдела Омского губревкома затребовал информацию от своих уполномоченных о состоянии имений и их дальнейших перспективах. Опись хозяйств, продолжавшаяся до весны 1920 г., выявила безрадостную картину. Особенно пострадали селения, расположенные в непосредственной близости от Транссибирской железнодорожной магистрали, так как отступавшие колчаковские войска и наступавшая Красная армия проводили среди местного населения бесконечные реквизиции.
Сильно пострадало имение Я. И. Ремпе-нинга. Были угнаны около 40 племенных, чистокровных лошадей, а взамен оставлено 20 «никуда не годных лошадей». Зарезали до 80 племенных овец, всех поросят и всю птицу. Был расхищен фураж, инвентарь, продукты питания, причем в отчете уполномоченного Лебедева особо отмечалось, что жители соседних селений в расхищении имения участия не принимали 2 .
Имение Ф. Ф. Штумпфа, развал которого начался еще в период «первой советской власти», так и не смогло восстановиться. Лишившись арендованной им раньше у Сибирского казачьего войска земли, владелец стал переводить свое хозяйство на купчую землю. Эта перестройка совпала по времени с военными действиями. В результате новые постройки остались незавершенными, весь скот (лошади, коровы, волы) был согнан в одно стадо. Из-за болезней, плохого ухода и корма усилился падеж крупного рогатого скота. В ноябре 1919 г. при отступлении белых, с которыми ушел и сам Ф. Ф. Штумпф, его имение было сильно разграблено местным населением. Сразу после восстановления советской власти агентами губернского продовольственного комитета в имении был произведен массовый убой оставшегося скота. Расхищение имущества Ф. Ф. Штумпфа, в том числе и личных вещей, продолжалось и в начале 1920 г., хотя в то время жалкие остатки бывшего образцового сельскохозяйственного предприятия имели уже статус советского 3 хозяйства .
Из имения Ф. И. Исаака были угнаны 46 лошадей, 12 голов рогатого скота, 12 овец, в числе которых были и хорошие племенные экземпляры. Уполномоченный сообщал, что хлеб, принадлежавший этому хозяйству, в момент обследования «расхищается до невозможности» 4 . Пострадало и хозяйство братьев Г. И. и Я. И. Шварц, из которого «увели всех лошадей, кроме калек» 5 .
Война нанесла урон частновладельческим хозяйствам и в Бородинской волости Омского уезда. По данным волостного ревкома, во время отступления белых в Чучкино пострадало 25, в Трусовке – 15, в Бородинке – 10 хозяйств и т. д. 6 Белые и красные забирали в первую очередь лошадей, сани, упряжь, одежду.
Признавая «полное разорение крупных хозяйств… проходящими войсками», уполномоченный имения И. П. Изаака «Райское» Ге-фель вместе с тем отмечал, что «сохранение имения как культурного хозяйства желательно,
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 1 © П. П. Вибе, 2006
так как окрестное население интересуется улучшением своих хозяйств» 7 . Очень оптимистично был настроен управляющий имением Я. И. Ремпенинга Лебедев: «Имение Рем-пенинг в будущем может сыграть роль культурного рассадника племенного скота, так как имеются вполне приспособленные помещения – конюшни для лошадей, коров и овец, имеется в наличии племенной рогатый скот и племенные лошади-трехлетки. Достаточное количество сельскохозяйственных орудий даст возможность устроить опытные поля или станцию.
Таким образом, в будущем на имение Рем-пенинг надо смотреть как на цветущий оазис среди некультурного, примитивного сельского хозяйства» 8 . Из хозяйства братьев Шварц, по оценке уполномоченного, также вполне можно было сделать «культурный рассадник» 9 .
Следует отметить, что перспективы бывших частновладельческих хозяйств в Сибири оценивались неоднозначно. Например, теоретики советской аграрной политики полагали, что «частные владения Сибири, судя и по истории их насаждения, в сущности, те же крестьянские владения, только приобретенные в собственность». В отличие от европейской России они не имели таких исторических корней, как крепостное право и обезземеливание крестьянства. Поэтому сибиряк склонен был рассматривать эти владения «как “трудовую” собственность, родственную и действительно сходную с его захватным, “заимочным” хозяйством». Считая уничтожение частновладельческих хозяйств делом, не подлежащим обсуждению, авторы книги «Земельный вопрос в Сибири» призывали вместе с тем «соблюдать некоторую осторожность» в вопросе об их дальнейшем использовании. По их мнению, устройство в бывших частных владениях советских хозяйств или коммун было бы не совсем целесообразно, так как в силу разбросанности населенных пунктов в Сибири «показательная сторона таких хозяйств для населения отпадала бы». Кроме того, многие частновладельческие хозяйства по своей оснащенности не отличались от любого зажиточного крестьянского хозяйства и были далеки «от того капиталистического типа сельскохозяйственных экономий, который бы заслуживал серьезного внимания и выдержанного принципиального отношения». Из этого делался вывод, что ограничениям должны подлежать лишь действительно крупные хозяйства, обрабатывающие землю главным образом наемным трудом. Частновладельческие же хозяйства, близкие к норме среднего трудового землепользования, должны были оставаться в пользовании владельцев 10.
В обращении же Сибревкома «К сибирскому трудовому сельскому населению» была сформулирована программа действий советской власти в отношении предпринимательских хозяйств, отличавшаяся революционной прямолинейностью и пролетарской непримиримостью: «Нужно создать из бесполезных и часто вредных для деревни хозяйств деревенской буржуазии и кулачества школы трудового хозяйства. Там должны быть питомники племенного скота, склады общественных машин, рассадники улучшенных семян, школа обработки земли и ухода за нею, кузницы, мастерские – все это должно быть общественным, кооперативным, всегда доступным трудовому хозяйству.
Это будут советские хозяйства-школы. Это будут хозяйства на товарищеских артельных началах, создаваемые совершенно добровольно, без всякого принуждения и запугивания. Это трудовые кооперативы. Но кооперативы без богатеев и кулаков, которые нередко раньше в кооперативах распоряжались. Теперь будут распоряжаться сами труженики. Будут делать общее дело, ставить общественное хозяйство» 11 . Эти программные установки и предопределили судьбу частного немецкого предпринимательства в сельском хозяйстве Сибири в конце 1919–1920 г.
В соответствии с ними имущество бывших крупных немецких хозяйств, подавляющее большинство которых находилось в Омской губернии, было конфисковано и признано государственной собственностью. Никаких расчетов с их прежними владельцами не производилось 12 . Имения были объявлены советскими хозяйствами и переданы под контроль управления совхозами Омской губернии. Такова была участь хозяйств Ф. Ф. Штумпфа, Я. И. Ремпенинга, И. П. Изаака, братьев Г. И. и Я. И. Шварц, Ф. И. Исаака и других в Омском уезде, И. Ф. Вибе – в Ишимском уезде.
Советские органы власти возлагали на эти хозяйства большие надежды. Так, в январе 1920 г. Омское губернское отделение животноводства обратилось в управление совхозами с ходатайством передать ему имения Ф. Ф. Штумпфа, Я. И. Ремпенинга и Г. Ф. Ян-цена, так как в них было намечены устройство молочных ферм для обеспечения Омска молоком 13 . В имении Ф. И. Исаака планировалось устроить детскую колонию 14. К весне 1920 г. бывшие предпринимательские хозяйства находились в плачевном состоянии. По оценке самих представителей советской власти, они не были готовы к посевной, не видно было «хозяйского глаза» 15.
Национализации и преобразованию в совхозы были подвергнуты и средние по масштабам частновладельческие и арендаторские хозяйства, которых было немало на казачьих землях и в Бородинской волости Омского уезда. Так, уполномоченный Омского губернского управления советских хозяйств Калачев, в ведении которого находились хозяйства, расположенные на землях станиц Атаманской, Захламинской и Мельничной, обследовав в декабре 1919 г. весь район, отмечал, что хозяйств, подобных имению Ф. И. Исаака, он не обнаружил. Хозяйства, находившиеся в мен-нонитских поселках Чукреевка, Чунаевка и Ребровка, не были подвергнуты им учету, так как их размеры были невелики, а опасность расхищения маловероятной. Кроме того, преобразование этих участков в советское хозяйство, по мнению уполномоченного, было воз- можно лишь после проведения землеустроительных работ.
Большее опасение у уполномоченного Калачева вызывали отдельно расположенные хозяйства, которые с началом весенних полевых работ могли стать объектами посягательства со стороны жителей Куломзино. Упомянутые им предпринимательские хозяйства имели от 100 до 250 и больше десятин земли, от двух до шести рабочих (главным образом военнопленных) и хороший инвентарь. При этом их владельцы не только управляли своими хозяйствами, но и сами работали в них. Особое внимание уполномоченного привлекли три мен-нонитских хозяйства: И. Ф. Матиса (337 дес.), Г. Ф. Янцена (562 дес.) и С. Дик (457 дес.), которые, по его мнению, следовало «считать хозяйствами относительно крупными». В связи с этим в имениях были взяты на учет скот и инвентарь, а также запасы хлеба и кормов. В своей хозяйственной деятельности владельцы пока оставались свободными, но были обязаны «все продукты хозяйства сдавать в губ-продком, получая квитанции». По словам уполномоченного Калачева, «при легкой комбинации этих хозяйств получилось бы довольно крупное и чрезвычайно богатое советское хозяйство вблизи города» 16 .
В начале января 1920 г. советскими органами власти было описано хозяйство известного в Сибири предпринимателя Р. Г. Шпехта, находившееся в Бородинской волости, в 40 верстах от Омска. На время переписи в имении было всего лишь семь постоянных рабочих, занятых главным образом на конюшне и скотном дворе. По мнению уполномоченного по учету национализированных имений
Чвырина, во всех отраслях этого хозяйства была «видна умелая постановка дела». Общая площадь земли составляла 600 дес., из которых под пашней находилось 200 дес., сенокосом и выгоном – 350 дес.; 50 дес. составлял лес. В имении были хорошие чистокровные лошади и ценный крупный рогатый скот.
Уполномоченный предлагал бывшего владельца имения, «как опытного хозяина», назначить заведующим хозяйством, но временно, «до определенного выяснения формы землеустройства данного хозяйства». Желая максимально использовать опыт и труд бывшего владельца на благо советской власти, Чвырин «из тактических соображений» не стал пока проводить опись имущества в квартире Р. Г. Шпехта. Но зато он создал в имении рабочий комитет, в который вошли пятеро из семи рабочих 17 . Спустя несколько дней Р. Г. Шпехт и бывший сельский хозяин П. Д. Зейферт, прекрасно понимая, какие перспективы ожидают бывшие частновладельческие хозяйства, обратились с докладом в отделение животноводства Омского губернского земельного отдела, в котором изложили свой проект создания крупных скотоводческих центров в Бородинской волости. Проанализировав ситуацию в Омской губернии после окончания военный действий, авторы проекта подвергли серьезной критике деятельность советских хозяйств, созданных в бывших частновладельческих имениях: «Думают лишь о сегодняшнем дне – завтра не существует. Мы не видели не только каких-либо приготовлений к недалекой уже весне и лету, но даже не слышали и каких-либо планов о дальнейшей работе. Жизнь здесь идет по инерции, по старым рельсам». В большинстве случаев советскими хозяйствами заведовали бывшие приказчики, которые «не привыкли и не умеют самостоятельно вести дело». Р. Г. Шпехт и П. Д. Зейферт не без основания предсказывали вероятность сильного неурожая в 1921 г. в Западной Сибири. Поэтому недосев и недобор сена в советских хозяйствах в 1920 г. грозили сельскохозяйственной катастрофой в районе. «Нынешний 1920 г., – писали они, – является последней возможностью сделать при дружной согласованной работе необходимые запасы». Подводя итог, авторы приходили к выводу, что работа советских хозяйств без общего руководства и единого плана протекала «разрозненно и, пожалуй, даже беспорядочно» 18 .
Р. Г. Шпехт и П. Д. Зейферт доказывали, что в Бородинской волости, в силу ее природных особенностей, зерновое хозяйство малопригодно. Вместе с тем волость идеальна для занятия скотоводством, для создания рента- бельных питомников. Этому способствовало наличие в волости большого количества расположенных неподалеку друг от друга национализированных хозяйств, имевших неплохое оборудование. При объединении и создании единого управления они могли бы превратиться в мощные скотоводческие центры. По мнению авторов проекта, в Бородинской волости можно было бы разместить до 650 голов крупного рогатого скота в национализированных имениях Марковских, Зейферта, Штефана, Липатникова и др.
Предприниматели предлагали объединить национализированные хозяйства в две группы: западную и восточную. Западная группа с хозяйственными центрами в бывших имениях Шпехта и Марковских общей площадью 4 612 дес. земли могла стать базой для молочного скотоводства. Восточная же – с хозяйственными центрами в бывших имениях Липат-никова (с конным заводом) и Зейферта общей площадью 5 010 дес. земли – была более предпочтительна для развития коневодства. Причем авторы предлагали создать там питомник чистокровных орловских рысаков, который, учитывая последствия Гражданской войны в европейской части страны, «был бы единственным не только в России, но [и] во всем мире». Для объединения усилий западной и восточной групп предлагалось создать общий хозяйственный центр 19 . Эти предложения вполне соответствовали позиции Сибревкома, изложенной в обращении «К сибирскому трудовому сельскому населению».
Следует отметить, что уездный агроном в своем сопроводительном письме к проекту предлагал обязательно привлечь к его реализации самих авторов, характеризуя их как людей, хорошо знавших местные условия и пользующихся доверием у населения. Думается, что этот проект был вполне реалистичен. Учитывая опыт авторов, особенно Р. Г. Шпехта, предприимчивость и желание бывших владельцев имений сохранить свои хозяйства в новых условиях, в Бородинской волости при поддержке советской власти мог быть создан действительно крупный центр сибирского скотоводства.
Однако проект Р. Г. Шпехта и П. Д. Зей-ферта так и остался нереализованным. Возможно, одной из причин невнимания к нему явилась критика авторами только что созданных и бесперспективных советских хозяйств. Главной же причиной, на наш взгляд, было желание советской власти, насаждавшей новые социалистические порядки в деревне, отстранить любым путем бывших предпринимателей от принадлежавших им ранее средств производства. Заведующий Омским губернским управлением советских хозяйств Гудович тогда же, в январе 1920 г., призывал соблюдать большую осторожность в вопросе об образовании сельскохозяйственных артелей и коммун, так как прежние владельцы частных имений, по его наблюдениям, стремились «закрепить за собой так или иначе землю», а потому пытались «создать искусственно объединения в виде артелей и даже коммун» 20. Учитывая эту позицию губернского руководителя совхозов, становится понятной бесперспективность последующей попытки Р. Г. Шпехта сохранить свое хозяйство. После неудачи с вышеупомянутым проектом он в марте 1920 г. обратился с заявлением к уполномоченному Наркомзема при Сибревкоме. В нем Р. Г. Шпехт сообщал, что на протяжении 20 лет созданный им питомник породистого рогатого скота и лошадей обслуживал окружающее население. Желая продолжить эту деятельность, он, ссылаясь на постановление Сибревкома о племенном животноводстве, просил разрешить ему под контролем губернского отделения животноводства вести свое хозяйство самостоятельно. В крайнем случае он соглашался организовать небольшую трудовую артель, подобно той, которая была им создана еще в 1918 г. К заявлению прилагался договор о ведении коллективного земледельческо-скотоводческого хозяйства, подписанный 11 участниками 21. Однако все старания бывшего предпринимателя оказались тщетными. На базе его хозяйства был образован совхоз, а сам Р. Г. Шпехт, для которого его имение было единственным источником доходов, вынужден был найти себе применение в качестве заведующего кокчетавским конным заводом в 10 верстах от Исилькуля 22.
Не удалось сохранить свои хозяйства и другим бывшим частным владельцам. В той же Бородинской волости в марте 1920 г. уполномоченным Чвыриным было описано еще одно хозяйство, принадлежавшее ранее И. П. Зименсу.
Мероприятия советской власти в отношении частновладельческих и арендаторских хозяйств в Сибири в конце 1919–1920 г. привели к их уничтожению. Первым шагом на пути к этому была национализация хозяйств и отстранение бывших владельцев и их доверенных лиц от управления вновь созданными советскими хозяйствами. Попытки сотрудничества немецких предпринимателей с новой властью не увенчались успехом. Их жизненный опыт, хозяйственный потенциал оказались невостребованными. Несмотря на то, что результаты деятельности частновладельческих и арендаторских хозяйств в Сибири в предшествующие два десятилетия были весьма впечатляющими, советская власть предпочла произвести конфискацию их имущества и преобразовать в советские хозяйства. Прежняя система производственных отношений была уничтожена, а новая не создана. Для этого периода были характерны дробление инвентаря и скота бывших предпринимательских хозяйств на части, разграбление их местным населением. Сдача бывших частновладельческих и арендаторских хозяйств временным артелям и коммунам приводила к нарушению сложившейся сельскохозяйственной специализации. Все это позволяет говорить о том, что в 1920 г. история немецкого сельскохозяйственного предпринимательства в Сибири завершилась.
Материал поступил в редколлегию 21.12.2005
-
1 Сов. Сибирь. 1920. 6 янв.
-
2 ГАОО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 746. Л. 26–26 а.
Там же. Д. 751. Т. 1. Л. 11–11 об., 68, 91, 108.
Там же. Д. 730. Л. 2–3 об.
Там же. Д. 728. Л. 65 об.
Там же. Ф. 150. Оп. 1. Д. 505. Св. 45.
Л. 35–35 об.
-
7 Там же. Ф. 209. Оп. 1. Д. 729. Л. 2–3.
-
8 Там же. Д. 746. Л. 26 а.
-
9 Там же. Д. 811. Л. 7.
-
10 Земельный вопрос в Сибири. М., 1919. С. 27–29.
-
11 Изв. Сиб. рев. комитета (Омск). 1920. № 1. С. 3.
-
12 ГАОО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 293. Л. 156.
-
13 Там же. Л. 194.
-
14 Там же. Д. 730. Л. 36.
-
15 Там же. Д. 729. Л. 54.
-
16 Там же. Д. 720. Л. 1–2.
-
17 Там же. Д. 813. Л. 1–1 об.
-
18 Там же. Д. 728. Л. 55 об.
-
19 Там же. Л. 56–57 об.
-
20 Там же. Д. 293. Л. 107.
-
21 Там же. Д. 813. Л. 24, 26–28.
-
22 Там же. Д. 28. Л. 61 об.