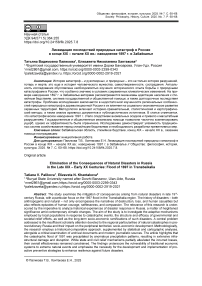Ликвидация последствий природных катастроф в России в конце XIX – начале ХХ вв.: наводнение 1897 г. в Забайкалье
Автор: Паликова Т.В., Хантакова Е.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
История катастроф – и рукотворных, и природных – это не только история разрушений, потерь и жертв, это еще и история человеческого мужества, самоотверженности, сострадания. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения исторического опыта борьбы с природными катастрофами в России, что особенно значимо в условиях современных климатических изменений. На примере наводнения 1897 г. в Забайкалье авторами рассматриваются механизмы адаптации населения к стихийным бедствиям, система государственной и общественной помощи, а также долгосрочные последствия катастрофы. Проблема исследования заключается в недостаточной изученности региональных особенностей природных катастроф в дореволюционной России и их влияния на социальноэкономическое развитие окраинных территорий. Методология включает историкосравнительный, статистический и картографический методы, а также анализ архивных документов и публицистических источников. В статье отмечается, что катастрофическое наводнение 1897 г. стало следствием аномальных осадков и привело к масштабным разрушениям. Государственные и общественные механизмы помощи позволили частично компенсировать ущерб, однако их эффективность была ограничена. Исследование демонстрирует уязвимость традиционных систем хозяйствования перед стихийными бедствиями и необходимость разработки превентивных мер.
Забайкальская область, стихийное бедствие, конец XIX – начало ХХ в., оказание помощи пострадавшим
Короткий адрес: https://sciup.org/149148786
IDR: 149148786 | УДК: 94(571.5):364.255 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.8
Текст научной статьи Ликвидация последствий природных катастроф в России в конце XIX – начале ХХ вв.: наводнение 1897 г. в Забайкалье
1,2Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия , ,
1,2Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, Ulan-Ude, Russia , ,
Вплоть до настоящего времени человек продолжает бороться с природной стихией и не всегда успешно. Изучение исторических природных катастроф приобретает особую значимость в контексте современных климатических изменений. Наводнение 1897 г. в Забайкалье – один из ярких примеров масштабного стихийного бедствия, повлиявшего на социально-экономическое развитие региона. Анализ этого события позволяет выявить механизмы адаптации населения к экстремальным условиям; роль государства и общества в ликвидации последствий катастроф; долгосрочные последствия для хозяйственного освоения территории.
В условиях усиливающегося воздействия климатических изменений важно не только изучать исторические примеры, но и извлекать из них уроки для современности, чтобы минимизировать последствия будущих возможных катастроф и повысить устойчивость общества к природным угрозам.
Задавшись целью проанализировать причины, масштабы и последствия наводнения 1897 г. в Забайкалье, а также оценить эффективность мер по ликвидации его последствий, мы использовали историко-сравнительный метод, позволивший сопоставить данные по разным округам Забайкалья; статистический анализ при обработке сведений о потерях и объемах помощи пострадавшему населению; метод картографирования для визуализации зон затопления и оценка достоверности отчетов администрации и свидетельств очевидцев, критический анализ источников.
Проблема исследования заключается в недостаточной изученности региональных особенностей природных катастроф в дореволюционной России и их влияния на социально-экономическое развитие периферийных территорий, а также практически полным отсутствием исторических работ, посвященных данной проблеме в рамках указанного региона. Единственным сочинением, темой которого стало интересующее нас разрушительное наводнение, явилась публикация 2018 г. (Пряженникова, 2018); А.В. Шаликовский, посвятив свои работы наводнениям Забайкалья, лишь вскользь упоминает в них о событиях 1897 г. (Шаликовский, 2019; Водный режим рек и опасные гидрологические явления на территории Забайкальского края …, 2022); более подробные исторические работы посвящены наводнениям Сибири (Мыгдан, 2013; Туров, 2022); в превалирующей части монографических исследований ученые рассматривают подобные катаклизмы в рамках географической, а не исторической науки (Задонина, 2008; Кичигина, 2018; 2021; Носкова и др., 2019; Обязов и др., 2012; Разумов и др., 2015).
Забайкальская область в географическом отношении принадлежит к трем водным системам: озеру Байкал и его притоку реке Селенге с впадающей в нее рекой Хилк, одной из крупнейших рек Ленской системы – Витиму и его притокам (Западное Забайкалье), обоим крупным ответвлениям Амура – рекам Шилка и Аргунь с их многочисленными притоками (Восточное Забайкалье). Административно она представляет собой военное губернаторство в составе Иркутского генерал-губернаторства, образованное в 1851 г. и простиравшееся с севера на юг и с запада на восток, занимая обширные территории за Байкалом, равные 538 890 вер2. Забайкальская область включала в себя 8 округов с 7 окружными городами. В общей сложности на этой территории в конце XIX в. проживало 672 037 чел. при средней плотности населения 1,25 чел. на вер.2 Самыми населенными были Верхнеудинский (167 876 чел.), Читинский (138 767 чел.) и Селенгин-ский (102 158 чел.) округа, при этом внегородское население составляло 629 259 чел., причем почти половина граждан (308 977 чел.) проживала в Восточном Забайкалье (округа: Читинский 127 256; Нерчинский – 87 695; Нерчинско-Заводский – 72 074; Акшинский – 33 257 чел.)1.
Все наличное население Забайкалья в 1897 г. распределялось по нескольким группам: крестьяне-старожилы (192 тыс. чел.), казаки русского происхождения (163 тыс.), казаки-инородцы (25 тыс.), ссыльнопоселенцы и поселенческие дети (22 тыс.), кочевые и оседлые инородцы, новоселы (чуть больше 13 тыс. чел.). Юридически большая часть населения области, как русского, так и инородческого, относилась к казачьему сословию (Кауфман, 1900: 10–15).
На этой территории казачьи поселения были сосредоточены в Нерчинском (187), Троицко-савском (64) и Акшинском (53) округах. В остальных население было смешанным: в Нерчинско-Заводском округе – 96 казачьих, 48 крестьянских поселений, в Баргузинском – 33 крестьянских и 18 инородческих, Верхнеудинском – 142 крестьянских и 134 инородческих; наконец, все три группы граждан были представлены в Читинском (39 казачьих, 70 крестьянских, 205 инородческих поселений) и Селенгинском (121, 62 и 163 соответственно) округах (Кауфман, 1900: 10–15).
В национальном отношении нерчинские казаки были русскими, акшинские – в десятой своей части, а троицкосавские – почти в половине случаев являлись инородцами. В читинских поселениях проживали: половина инородцев, третья часть русских крестьян, остальные русские казаки, в селенгинских – около трети населения составляли русские крестьяне, больше половины инородцев были зачислены в казаки (Кауфман, 1900: 10–15).
При этом нужно учитывать, что население области распределялось по ней неравномерно, да и сама освоенная площадь региона была в то время незначительной и составляла 27,3 %. В среднем 1 селение встречалось на 364 верст, лишь в Селенгинском округе – на 88, реже в Акшинском – на 611 верст и Баргузинском – на 2 712, в остальных – на 204–205, но в Акшинском округе селения были крупнее, здесь в среднем проживало 643 души обоего пола, в то время как в Верхнеудинском – 552, Нерчинско-Заводском – 424, а в остальных – 321–388 (Кауфман, 1900: 10–15).
Селения крестьян и казаков, как правило, располагались на берегах рек, изредка при ключах. Вверх и вниз от жилых домов, вдоль реки или в падях, выходивших на долины рек и в местах владений селенческих земель находились покосы, на склонах падей, «в еланях» широкой полосой шли пахотные угодья, поднимавшиеся «на увалы». Хозяйство казаков-инородцев имело свою специфику, заключающуюся в том, что на каждые 100 домов, по подсчетам А.А. Кауфмана, приходилось 136 летних, 43 зимних и 110 переносных юрт (Кауфман, 1900: 16). Эти особенности, на наш взгляд, важны, поскольку могут прояснить масштабы ущерба, нанесенного стихией.
Многолетние изменения водного режима рек Забайкалья цикличны. Исследования показали, что с начала ХХ в. продолжительность циклов водности в среднем составляет 26 лет, при этом на многоводные фазы за это время приходится от 8 до 16 лет, а на маловодные – от 11 до 19 лет. Данные колебания обусловлены характером выпадения атмосферных осадков (Носкова и др., 2019). Добавим, что для XIX в. данный цикл удлинялся до 30 лет – наиболее значимые наводнения этого времени произошли в 1831, 1863 и 1897 г. Причем катастроф такого масштаба, как в 1897 г., в истории Забайкалья еще не было – в памяти народной не сохранилось примеров.
Паводок охватил почти одновременно речные бассейны Селенги и Шилки (реки Хилок, Онон с притоками Ия, Ингода, Чита/Читинка, Чикой, Ага). Основной причиной катастрофического разлива рек стали аномально интенсивные осадки летом 1897 г. Как следует из летописей Читинской метеорологической станции, составленной корреспондентом Главной физической обсерватории, учителем М. Павловым, количество осадков за май – август 1897 г. превышало среднюю месячную норму за шестилетие в два-три раза с пиком в июле. Если в апреле выпало 7,4 мм, что было несколько ниже предшествующих лет, то существенный рост осадков начался с мая и составил 52,7 мм (максимум – 31,7 мм, зафиксирован 26 мая), в июне – 154,0 мм (с максимумом в 33,4 и 32,7 мм 1 и 15 июня), в июле – 170,2 мм (максимум – 43,5 и 35,6 мм 23 и 24 июля соответственно), в августе – 154,0 мм1. При этом обильные дожди способствовали значительному урожаю зерна и трав, впоследствии уничтоженному разливом, но чрезвычайная насыщенность земли влагой привела к тому, что она уже не могла сдерживать интенсивные осадки.
Общий ущерб от наводнения составил 8 339 160 руб., из них 6 021 000 руб. – ущерб забайкальского участка Транссиба, максимально пострадала строящаяся дорога в районе Чита-Сре-тенск, 1 225 731 руб. – казачьего, 1 092 429 руб. 67 коп. – крестьянского и инородческого населения. Наибольший урон понесли казаки Нерчинского (393 546 руб.), крестьяне Читинского (394 504 руб.) и инородцы Селенгинского (117 692 руб. 47 коп.) округов2.
Помимо этого, область на небольшой срок оказалась практически отрезанной от других административных единиц в результате ухудшения состояния главного сибирского тракта, побочных почтовых и проселочных дорог: «Главный сибирский и остальные тракты во многих местах заливались водою, которая промывала рвы, ямы, сносила мосты; в тех же местах, где не заливалась вода из речек, рек, тракт сильно портили дождевые потоки»3. Результатом блокировки Забайкалья водой стало «вздорожание всех жизненных продуктов». Кроме этого, убытки понес и Переселенческий комитет: были разрушены 2 барака в Чите, унесены 2 453 бревна и 19 саженей дров, в общей сложности на 7 000 руб.4 Подорожание продуктов питания вынудило существенно увеличить выдачи переселенцам путевых ссуд и пособий.
Как правило, жители вели наблюдения за увеличением воды в реке, но предсказать, когда начнется наводнение все-таки не могли. Иногда предупреждение о наводнении было совершенно случайным, как в эпизоде с разливом Чикоя в районе урочища Тагалцарского (1897), причинившим минимальный ущерб, потому что подъем воды был вовремя замечен1.
Население пыталось предотвратить опасность. Жители посёлка Агинское, которых довольно часто беспокоила река Ага, после очередного паводка 1882 г. прорыли новое русло саженной глубины от устья реки Куоши до деревянного моста на реке Аге, отведя воду на 180 саженей от поселения, зафиксировав берега реки плетеными прутьями в соответствии с планом-схемой укрепления, разработанным чертежником Цыбен-СуварНамсараином2. Однако это не спасло от стихии в 1897 г. Ища защиту от надвигающейся беды, казаки станицы Дурулгуй 28 июля (день Смоленской иконы Божьей Матери) 1897 г., заметив прилив воды в реке Онон, обратились к священнику с просьбой отслужить на берегу молебен об избавлении от грозящей опасности. Однако по окончании молебна пришел первый вал, заливший поселок почти на полметра, затем последовало еще два вала.
27–28 июля вода в реках достигла рекордной точки подъема, что привело к «небывалому» разливу рек. По воспоминаниям очевидцев, на Читу вода шла валом высотой под 3 метра, высший уровень воды доходил до пяти метров (по современным подсчетам – 507 см). Все предместья города: Большой, Малый и Хитрый острова, Теребиловка и станица Титовская, – были в воде, местами смыты. Затопление охватило площадь до четырех километров в ширину и свыше десяти – в длину. В поселке Атамановский (по реке Ингоде) вода в домах поднялась до потолков. Ниже Читы (по реке Ингоде), в окрестностях Сретенска (по реке Шилке), уровень воды поднялся на 10 метров выше ординара. В самом Сретенске, находящемся на довольно высокой речной террасе, по прибрежным улицам и площадям жители передвигались на лодках. Некоторые селения совершенно исчезли, как сообщает военный губернатор, большинство сильно пострадало. Снесены: большей частью Ново-Доронинское селение, Аршинский поселок (на Ингоде), станица Митрофановская и селение Усть-Карийское (на Шилке), почти полностью поселки Кручинский близ Читы и Пушкаревский на Ингоде. В Акше (река Онон) к вечеру вода пошла валом, затопив долину и большую часть городских строений. В долине Онона вода за 15 мин. залила усадьбы и разлилась на ширину до 2,5 км «от горы до горы». Собственно, уровень всех рек поднялся на 5 м выше максимальных расчетных горизонтов3.
В сельской местности паводок застал людей на сенокосах, особенно тяжело пришлось тем, кто косил на островах. Для ясности можно привести только один пример. Казак Жиндинского поселка Новотроицкого станичного общества П. Лиханов с семьей был застигнут вышедшим из берегов Ононом на острове во время сенокошения; спасаясь от воды, люди влезли на стог, который тут же разорвало на части: на одной оказался глава семейства, а на другой – 2 молодые женщины и три мальчика 7, 12 и 14 лет, их стремительно понесло течением от поселения. Спасение людей продолжалось всю ночь, догнать их удалось только под утро, когда родственники сумели пересесть с лошадей на бат, проплыв на нем еще 2 версты, «сняли сидевших… по пояс в воде, обезумевших от страха женщин и детей и благополучно возвратились на берег». При этом Лихановы, как говорится в отчете, «не остановились пред страшным риском, которому подвергали себя, пускаясь на таком несовершенном судне, как бат в плавание по необычайно разлившейся реке», скрывавшей не всегда заметные, но опасные преграды, для спасения и других жителей, попавших в беду. Чтобы был понятен риск, которому подвергались казаки, нужно понимать, что бат представлял собой «корыто», выдолбленное из целого толстого древесного ствола, тупое с одного (рулевого) конца и заостренное – с другого (носового), без весел; он был крайне неустойчив и не имел маневренности, нужно было обладать значительным мастерством для управления ба-том в спокойной воде, а уж в стремительном потоке тем более.
Если в городах в спасении жителей принимали участие пожарные команды, полиция и гарнизон (там, где квартировали воинские подразделения), то крестьяне, инородцы и казаки должны были рассчитывать исключительно на свои силы. Губернаторские и полицейские отчеты сохранили имена добровольных помощников: старший караульной команды урядник Золотовский, казаки Зверев и Рагалев, писари Филиппов и Гантимуров (Акша), сельский атаман урядник Мыльников и казаки Ф. Токмаков и Н. Золотухин (станица Часучевская I Чиндантского станичного округа), казаки станицы Дурульгинской В. Чилисков и А. Старицын, жители не пострадавших Куражинского и Тут-холтуинского поселков, кударинские казаки И. Уланов и Н. Клочихин (спасли 25 крестьян Сажегин-ского и Киретского селений), казак Д. Ганжуров (урочище Больше-Лугское). По оценкам местной власти, самой крупной была помощь казаков Могойтуевской станицы крестьянам находящегося в 10 верстах Усть-Илинского селения: на сооруженных из подручных материалов плотах они эвакуировали население и имущество, а потом в течение 10 дней оказывали продуктовую помощь1.
Выше уже упоминалось о материальном выражении ущерба, но цифры не дают визуализации потерь, прежде всего безвозвратных. Несмотря на мощь стихии, пришедшей ночью, погибших оказалось, как сообщает в своем отчете военный губернатор, 6 человек2. Далее. К безвозвратным Е.О. Мациевский отнес и «превращенные в негодные земельные угодья». Так, в поселке Урейский (54 усадьбы, 396 чел.) в основном пострадали засеянные поля, а у двух семей посевы были уничтожены полностью, их имущественный ущерб был оценен в 640 руб. Посёлки Омодовский (26 усадьбы, 163 чел.), Черновский (20 усадеб, 104 чел.), Ереминский (15 усадеб, 76 чел.), Засо-почный (34 усадьбы, 220 чел.), Ключевский (6 усадеб, 33 чел.), станица Титовская (31 усадьба, 186 чел.), расположенные на берегах Ингоды, потеряли сенокосные луга, скошенную к моменту наводнения траву, хлеб на корню. В Титовской, кроме этого, пристаничный выгон был «частью отмыт водой, на оставшейся части почвенный слой снесен, остался только сплошной щебенистый или песчаный грунт. По меньшей мере, 25 % пахотной земли подверглось той же участи»3.
Существенный ущерб был нанесен и усадьбам – в отчетах встречаются примечания типа: «место, где находятся усадьбы, превращено в состояние, совершенно не пригодное для жилья» (выселок Загвоздкин), земля под усадьбами «взрыта водою», «огороды приведены в состояние невозможное для пользования ими» (поселок Кручинский, кстати, ранее перенесенный на новое место). Сложнее всего пришлось владельцам юрт – их снесло практически сразу. В селении Уль-хинское из 77 домохозяйств потоком было снесено 37 юрт казаков-тунгусов4.
Разыгравшаяся стихия оставила после себя новые русла рек вблизи или по улицам селений. Так, на главной улице станицы Дурульгуевской образовался ров глубиной до 2 аршин и длиною 1,5 версты; в поселке Усть-Тулунтаевский (65 усадеб, 390 чел.) Онон несколько изменил свое русло в направлении поселка и возникла угроза в будущем наводнений даже при незначительном подъеме воды в реке, как и в поселке Нижне-Ульхинском (88 дворов, 542 чел.), где река также образовала новые русла.
И, наконец, значительным оказался общественный ущерб (в данном случае имеются в виду строения, содержащиеся на народные средства): уничтожены или разрушены здания церквей и причта (поселок Бянкинский, станицы Митрофановская, Дурульгинская), больницы (войсковая в Акше), цейхгаузы (станица Верхне-Ульхинская, город Акша), школы (станица Размахин-ская – особо обращалось внимание на значительное число испорченных и уничтоженных учебников в церковно-приходской школе), ограды, поскотины, валовые изгороди (поселок Усть-Онон-ский), хлебозапасные магазины (город Акша, поселок Нижне-Ульхинский).
Безусловно, все утраты были значимы для населения, но, пожалуй, наиболее болезненно воспринимались потери, понесенные хлебными магазинами, то есть складами зерна. Наибольший ущерб, зафиксированный в отчетах, характеризовал хлебные запасы поселка Нижне-Уль-хинский, где из 110 969 кг осталось 469 кг неиспорченного хлеба5.
Ущерб недвижимой и движимой собственности вел к решению переноса поселения на новое место, причем он не только обсуждался и решался властями, но такое решение принималось самими жителями, в некоторых случаях явочным путем: «Поселок в полном составе на прежнем месте оставаться не может, потому что нет никакой гарантии от возможности быть вновь затопленным… жители выселка перебрались в самый поселок, куда намерены переселиться навсегда» (поселок Кубухаевский Дурулгуевской станицы, 122 двора, 448 чел.), «жители решили перенести усадьбы на более возвышенное место, вблизи прежнего поселения, чтобы не подвергаться затоплению» (Чунгурук, 16 дворов, 85 чел.)6.
Для оказания помощи пострадавшим уже 30 июля 1897 г. в Чите был образован временный комитет, действовавший до 21 апреля 1898 г., за это время было проведено 23 заседания. Образовалось правление во главе с епископом Забайкальским и Нерчинским Георгием. В состав его 13 членов вошло все высшее чиновничество Забайкальской области: военный губернатор (заместитель председателя), начальники и представители военного, судебного, полицейского, казачьего, финансового и духовного ведомств, главы городского и сословного управления Читы7.
Перед комитетом стояла тройная задача – определение размера ущерба, нанесенного наводнением (в среднем, как выяснилось в ходе работы, на каждый дом приходилось 280– 300 руб. убытка), формирование капитала помощи (сбор добровольных пожертвований по подписным листам и индивидуальных взносов) и собственно оказание помощи пострадавшим. Первоначальную основу капитала составили 1 291 руб. 50 коп. и 100 пудов муки1, собранные на первом заседании, что позволило сразу оказать помощь в размере 400 руб. читинцам. На решение в общих чертах первой задачи потребовалось некоторое время, к 11 августа о деятельности комитета стало известно всем пострадавшим, что существенно облегчило выявление размеров необходимой помощи.
Сбор добровольных пожертвований, особенно в таких катастрофических случаях, традиционно проходил успешно, и общая сумма, сосредоточившаяся в кассе комитета, составила 99 212 руб. 13 коп. Она состояла из взноса Николая II сначала 2 000 руб., а потом еще 10 000 руб. казакам и гражданскому населению области (11 августа), государственной помощи – по 30 тыс. руб. от МВД для гражданского (городского, крестьянского и инородческого) и военного министерства для казачьего населения (27 августа), 6 625 руб. – от Кяхтинского купечества, остальные средства поступили по подписным листам, причем в этом мероприятии принял участие и генерал-губернатор Приамурья С.М. Духовской, собравший 27 212 руб., среди крупных жертвователей можно назвать кяхтинского 1-й гильдии купца А.Я. Немчинова (5 000 руб.), С.М. Духовского и верхнеудинской 1-й гильдии купчихи Е.И. Кукель (по 1 000 руб.). В оказании помощи приняли участие и жители Дальнего Востока, которые сами довольно часто страдали от разливов Амура, а также население Восточной Сибири. Так, редакция газеты «Восточное обозрение» (Иркутск) перечислила 2 359 руб. 50 коп., Благовещенское городское общество – 2 000 руб., общество офицеров Благовещенска-на-Амуре – 1 000 руб., полученных от проведения аллегри (мгновенная лотерея), редакция газеты «Приамурские ведомости» собрала 413 руб., а ТД «И.А. Бадмаев и К0» перечислил 440 руб. В числе пожертвований числится также 400 пудов муки2.
Деятельность комитета по оказанию помощи жителям Забайкалья, пострадавшим от наводнения, была прозрачной: отдельным приложением к «Забайкальским областным ведомостям» выходили протоколы заседаний со списками жертвователей и получивших помощь (сентябрь 1897 – апрель 1898 г.), в последующем вся отчетная документация была опубликована в «Обзоре Забайкальской области». Более того, деньги, находившиеся в распоряжении комитета, раздавались под расписки, переданные на ревизию в Государственный контроль.
12 августа Военным советом был открыт кредит из войскового капитала Забайкальского войска в размере 75 тыс. руб. для выдачи ссуд казакам, пострадавшим от наводнения.
В целом, вспомоществование имело натуральный и денежный характер. В частности, по заявлению и ходатайству Комитета, Приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской разрешил бесплатную выдачу леса пострадавшим из казенных дач, а также позволил передать населению «Отряда и Усть-Кары» постройки тюремного ведомства3. Другой вариант натуральной помощи – продовольственная, она осуществлялась отдельными лицами. Так, практически сразу после наводнения казаки станицы Верхнеульхунской, эвенки братья Базар и Даши Ендоновы «на продовольствие наиболее пострадавших своих однообщественников» пожертвовали 20 голов домашних коз4. Из капитала же комитета выдавалось на обеспечение населения хлебом пособие. Так, в расходной части денежного отчета значатся 2 выдачи: 4 000 руб. городскому общественному управлению города Чита на устройство мучной лавки для продажи хлеба по сниженной цене и 300 руб. полицеймейстеру Читы на покупку хлеба для ночлежного дома5.
Кратко остановимся на ссудном капитале. Размер ссуд, как правило, соотносился с понесенными убытками. В городских и сельских поселениях выдавалось от 10 до 200 руб., крупная сумма от 150 руб. дробилась на несколько частей, и каждая последующая выплачивалась только в случае недостаточности предыдущей6.
Максимально значимой была безвозмездная помощь. Сначала поддержка была оказана жителям Читы. Затем, когда были установлены необходимые сведения о нуждах пострадавших, пособиями обеспечили жителей Старо-Нерчинска, Селенгинска, Акши, крестьянское и инородческое население Читинского, Нерчинско-Заводского, Троицкосавского, и Верхнеудинского округов. В Чите пособие предоставлялось по словесным и письменным указаниям городского головы и полицеймей- стера, а общая сумма помощи составила 8 428 руб. Жителям Старо-Нерчинска и Селенгинска по ходатайствам городских старост выдано 1 200 р. и 3 000 руб. соответственно. Акшинскому окружному начальнику для раздачи жителям города и округа в пособие передано 700 руб.1
О нуждах крестьянского и инородческого населения правление комитета информировалось окружными начальниками, о надобностях казаков – председателем Войскового хозяйственного правления, а предоставляемое пособие соответствовало убыткам, понесенным гражданами с учетом их возраста, трудоспособности и семейного положения. Все сельское население было разделено на 2 разряда (если ущерб оценивался до 200 руб., присваивался 2, если свыше – 1), причем в округах размер ущерба оценивался по-разному.
Наиболее пострадавшим оказалось население Читинского (по рекам Ингода и Онон) и Се-ленгинского (по реке Чикой) округов, размер помощи которым составил 14 414 руб. 67 коп. и 14 135 руб. соответственно. На нужды крестьянского населения Акшинского округа было выслано комитетом 1 100 руб., а жители Верхнеудинского округа, хотя и понесли крупные убытки, но уцелевшее имущество признали для себя достаточным и об особой помощи не просили. Тем не менее, на всякий случай сюда и в наименее пострадавший Нерчинско-Заводской округ правление комитета направило авансом окружным начальникам по 3 000 руб., и пособие оказалось нелишним. Вспомоществование казакам области составило почти 45 710 руб.2
Казачье население, помимо средств комитета и военного министерства использовало и собственные, как то: станичные и больничные капиталы. На последний сразу же после наводнения была восстановлена Акшинская войсковая больница. Им же из общественных запасов (143 400 кг хлеба) обеспечивалась хлебная ссуда.
При этом стоит отметить, что некоторые селения и отдельные граждане, отнесенные к 1 разряду, не заявляли о компенсации. Так, ни одно семейство небольшого, но достаточно зажиточного поселка Чунгурук, признанное по размеру убытков одним из наиболее пострадавших казачьих пунктов, не просило о помощи, как и жители поселков Уктыченский (по реке Шилке) или Ерёминский (по реке Ингоде). В последнем бобыль Г. Филинов, живший заработками, не обремененный домом и хозяйством, у которого оказался почти полностью уничтожен сенокосный пай, получив пособие, возвратил его, «ибо считал себя не имеющим права на пособие, когда другие более пострадали»3.
Израсходовав весь собранный капитал, правление комитета на своем последнем заседании 21 апреля 1898 г. постановило в соответствии с ранее принятым решением (протокол № 9 от 23 сентября 1897 г.) завершить работу комитета, все дела передать в Читинское отделение Императорского географического общества, возможным пожертвователям и желающим возместить ущерб от наводнения предлагалось обращаться в администрацию области4.
В целом, следует сказать, что наводнение 1897 г., вызванное аномальными осадками, связанными с климатической цикличностью, привело к масштабным разрушениям. Разыгравшаяся стихия нанесла колоссальный ущерб хозяйству и населению Забайкальской области, сопровождаясь человеческими жертвами, уничтожением плодородного слоя почв, потерей урожая, разрушением транспортных коммуникаций, повреждением движимого и недвижимого частного и общественного имущества. Государственные и общественные механизмы помощи, включая создание специального комитета, смогли частично восполнить ущерб, однако их эффективность оказалась ограниченной из-за недостатка ресурсов. Комитет по оказанию помощи (июль 1897 г. – апрель 1898 г.), выявив масштаб потерь, возглавил мероприятия по вспомоществованию пострадавшим, прежде всего осуществлял раздачу пособий, складывавшихся из государственных и частных (по подписным листам) денежных и продуктовых пожертвований в соответствии с 2 разрядами потерпевшего населения. Диапазон урона был настолько велик, что наряду с традиционными безвозмездными денежными выплатами власти прибегли к выдаче монетарных и хлебных ссуд в соответствии с размером убытка, возрастом, трудоспособностью и семейным положением нуждающегося.
Естественно, что оказанная помощь, во-первых, полностью не компенсировала понесенные потери; во-вторых, наблюдались задержки в распределении средств и недостаток помощи, оказанной инородцам (эвенкам, бурятам), но сам факт ее оказания всем потерпевшим без исключения свидетельствовал о существовавшей традиции, выработанной временем и связанной с моральной поддержкой пострадавшего населения. Очевидна уязвимость традиционных систем хозяйствования перед стихийными бедствиями, что акцентирует внимание на необходимости учета исторического опыта при разработке современных программ защиты от наводнений.