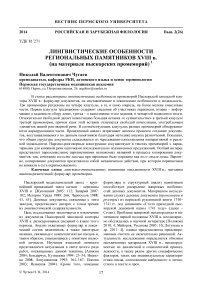Лингвистические особенности региональных памятников XVIII в. (на материале пыскорских промеморий)
Автор: Чугаев Николай Валентинович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика, теория перевода, литература в лингвистическом аспекте
Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены лингвистические особенности промеморий Пыскорской заводской конторы XVIII в.: формуляр документов, их синтаксические и лексические особенности и модальность. Три промемории разделены на четыре клаузулы, а те, в свою очередь, на более мелкие смысловые части. Первая клаузула традиционно содержит сведения об участниках переписки, вторая - информацию о задании по сбору денег, третья - о выполнении этого задания, в четвертой подводятся итоги. Относительно свободной делает композицию большая вставка «о сумнительстве» в третьей клаузуле третьей промемории, причем язык этой вставки отличается свободой композиции, употреблением элементов живой разговорной речи. В соответствующих клаузулах разных промеморий обнаруживаются варьирующиеся части. Проведенный анализ затрагивает аспекты процесса создания документов, восстанавливаемого по данным памятников благодаря методике анализа разночтений. Показано, что общая структура документа складывается из чередования-сопоставления императивной и реальной модальности. Народно-разговорные конструкции сосуществуют в текстах промеморий с характерными для книжной речи цепочками последовательно подчиненных предложений. Особый интерес представляет переосмысление переписчиками незнакомых названий в процессе копирования документов: так, сочетание погоста лимеша при переписке было передано как пого стали меша. Вероятно, копирование документов представляло собой механическое действие, при котором переписчики не вникали в суть переписываемого.
Лингвоисточниковедение, памятники письменности xviii в, методика анализа разночтений, формуляр, промемория
Короткий адрес: https://sciup.org/14729303
IDR: 14729303 | УДК: 81'271
Текст научной статьи Лингвистические особенности региональных памятников XVIII в. (на материале пыскорских промеморий)
Пыскорский медеплавильный завод – крупнейший прикамский завод начала – середины XVIII в. [Жуковский 2005: 112; Запарий 2007: 102; История Урала 1989: 266; Черноухов 1988: 43, 45]. Деловые документы, связанные с этим заводом, представляют интерес с точки зрения их лингвистической содержательности.
Цель исследования заключается в извлечении из документов Пыскорской заводской конторы XVIII в. разноуровневых сведений о языке этого периода. Анализ охватывает формуляр и лексический состав памятников, а также некоторые явления, связанные с компетентностью писцов и, таким образом, смыкающиеся с понятием языковой личности. Изучение языковой личности представляется актуальным в свете целого ряда работ, посвященных данной тематике [Аникин 2004; Бондарчук, Кузнецова 1994: 25–34; Иванова 2008; Лопушанская 1993: 164–167; Попова 2003; Ясинская 2004). Кроме того, описание формуляра и структурный анализ памятников способствует раскрытию жанровых особенностей деловых документов. Материалом исследования служат деловые документы (промемории и реэстры) из пермской рукописной книги 1740– 1741 гг. под названием «Столп приходной пыс-корской денежной казны 1741 году» (далее – Столп). Проблема жанровой неоднородности памятников первой половины XVIII в. неоднократно обсуждалась в научной литературе [Полякова 2010: 4; Майоров, Русанова 2005: 10; Логунова и др. 2011: 4], однако представляется преждевременным считать ее окончательно решенной. Актуальность исследования определяется обилием неохваченных материалов XVIII в., неоднородностью их диалектной и социолектной принадлежности, а также рядом других специфических факторов, таких как индивидуальные характеристики писца, соотношение шаблонного и личностного в тексте и проч.
Методика исследования состоит в сопоставительном анализе однотипных документов, извлечении из разноуровневых косвенных данных имплицитного знания создателя документа. Подобная методика обоснована В. Я. Дерягиным: «...при ограничении материла или его специальном отборе особое внимание может быть уделено тому или иному аспекту» текстологического исследования [Дерягин 1974: 203]; «...в сравнительном изучении деловых документов может быть использована (не механически, конечно) методика анализа разночтений, разработанная в исследованиях древнейших письменных памятников» [там же].
Основная задача данного исследования – сравнительный анализ четырех промеморий, содержащихся в Столпе. Кроме того, следует коснуться структуры самого Столпа. Невозможно оставить без внимания и такое явление, как ошибки писцов. Важность изучения отрицательного языкового материала [Щерба 1974: 33] также бесспорна. Достаточно привести высказывание С. И. Коткова: «...при прочих равных условиях... следует ориентироваться прежде всего на тексты менее грамотные» [Котков 1975: 14]. В связи с этим одной из сопутствующих задач нашего исследования был анализ графикоорфографических разночтений документов, относящихся к одному жанру. Другой сопутствующей задачей, возникшей в процессе анализа материала, было выявление частных обстоятельств, связанных с взаимодействием канцелярской и приказной традиций. Рассмотрение последнего вопроса касается, помимо всего прочего, речевой компетентности создававших документы профессиональных и непрофессиональных писцов.
Представляется целесообразным начать с характеристики жанрово-композиционной структуры книги, в которую входят рассматриваемые промемории. Столп представляет собой, с одной стороны, единую (сшитую суровыми нитками) рукописную книгу, с другой – сборник относительно самостоятельных деловых текстов разных жанров.
Наиболее часто в Столпе встречаются жанры доношения (42 ед.) и выписки в доклад (31 ед.) с вариантами названия докладная выписка, в доклад выписка, выписано в доклад, в данном случае представляющие собой финансовые отчеты целовальников и компиляции из таких отчетов соответственно. Довольно часто при доношениях и выписках встречаются росписи (16 ед.), содержащие статистические данные. В одном из до-ношений (11 л.) употреблено синонимичное название регистръ, при этом в заголовке прило- женного документа значится роспись. Надо отметить, что даже если роспись не выделена заголовком и не обособлена в отдельный документ, имплицитно она содержится в доношении, выписке или промемории, т. к. деловые финансовые документы по своей сути предполагают фиксацию статистической информации, например: «велѣно мнѣ вычесть при / выдачах жалованья сконюховь θотея никоно/ва аθонасья див-ликѣева заданное въ екате/ринбурхе платье и обувь а имянно с θотея / Никонова три рубли семдесят пять с половиною копеиКи с аθонасья дивликѣева три рубли восем/десять три споло-виною копеики» (2 л.). Кроме того, в книге содержится 11 указов и 3 определения, причем все они являются копиями.
Если говорить о промемориях, в Столпе их всего четыре, две из них дополняются реэстрами. Такой жанр, как реэстр встречается только при промемориях.
Отдельной частью Столпа является краткая опись , представляющая собой (вопреки названию) довольно подробное (29 л. с оборотами) описание документов в форме таблицы, состоящей из 6 столбиков (такое название употреблено во избежание путаницы со столбцами-свитками ), содержащих следующую информацию: четыре нешироких столбика с номерами и датами (создания/получения соответственно), для обозначения номера употреблен знак №. Пятый столбик содержит подробную информацию о текстах Столпа: полные наименования документов, граничащие с аннотациями. Данный материал представляется весьма ценным как образец реферирования текстов XVIII в. Последний столбик содержит номер листа, на котором расположен текст.
Важным элементом структуры документа является наличие нумерации листов, точнее, даже нескольких нумераций.
Первая была сделана одновременно с написанием текстов, и, вероятно, тем же, кто составил краткую опись , о чем свидетельствует характер начертаний: почерк, цвет чернил, инструмент письма. Автор краткой описи нумеровал не все листы, а сама краткая опись имеет собственную нумерацию, поэтому можно предположить, что нумерация была сделана после оформления книги в целостный документ. Вторая нумерация была сделана карандашом, по всей видимости, значительно позже, с высокой степенью вероятности, не раньше конца XVIII в.
Кроме того, необходимо отметить, что краткая опись вмещает в себя описание как имеющегося приходного столпа, с которым она сшита, так и отсутствующего росходного столпа.
В основной части Столпа, кроме того, в обилии содержатся пустые страницы, листы, развороты. Необходимо отметить интересный факт: 76-й и 79-й номера листов отсутствуют, что объясняется, по-видимому, ошибкой писца (целостность текстов при этом не нарушена). Во избежание путаницы ссылки на номера листов даются в соответствии с авторской нумерацией.
Таким образом, объем сборника составляет 112 (на последнем листе номер 114) листов с оборотами (без учета краткой описи). На титульном листе в соответствии с нумерацией указано номинальное число: 114 л. На обороте последнего, 114-го л., указано реальное количество: всемъ (так в ркп) сто-лпу поисчислению писанны-х/ листовъ числитъ на-длежитъ 112 листо-в. Таким образом, при проверке книги листы пересчитывались.
Степень речевой компетентности составителей текстов, несмотря на их общий деловой характер, неоднородна. Среди авторов есть очень грамотные писцы с красивым, четким почерком, в документах этих людей довольно мало ошибок, причем некоторые следуют письменной традиции XVII в., элементами которой является обилие выносных букв, дублетов, специфических начертаний, последовательно (по правилам) проставляемых диакритических значков над буквами. Другие, напротив, предпочитают начертания, более близкие к современным: например, а (округлая / альфой), в (лежачая / квадратная / калачиком), д (квадратная/круглая), т (превалирует трехмачтовая, но встречается и т семеркой), ъ/ь, ю, ы, я (близкие к современным/вертикальные, «длинные» начертания), л (стандартная / отраженная лямбда). По мнению С. И. Коткова, профессиональные писцы в XVII в. имели по преимуществу местное происхождение, вероятнее всего, и в XVIII в. названная тенденция сохраняется, однако при анализе пермских памятников следует учитывать особый характер Уральского региона как стремительно развивавшегося промышленного района, в который были приглашены как отечественные специалисты из старых промышленных районов – Олонецкого, Тульско-Каширского, Подмосковного, так и зарубежные [История Урала 1989: 260]. В связи с этим количество приезжих писцов может быть больше, чем в среднем по России, что, возможно, в большей степени относится к следующей группе, которую составляют непрофессиональные писцы с низким уровнем речевой компетенции.
Низкий уровень их речевых способностей объясняется, во-первых, отсутствием соответствующего образования, во-вторых, иными, неже- ли у профессиональных писцов, функциями: это представители рабочих специальностей (заводские служители), выходцы из крестьянской среды (Доноситъ приписнои кпыскорскимъ за-водамъ вилвенского стану крестьянин / абывшеи въ 740м году сотник терентеи петуховъ – 26 л.), солдаты (сса-лдато-м ссеме/но-м чю-лковымъ 77 л.), наконец, люди, занимающие мелкие административные должности, – целовальники, старосты и проч. (Доноситъ целова-лник яковъ южени-новъ – 1 л.). Тем не менее грамотность в этой среде была распространена довольно широко, что подтверждается тем, что практически все из них сами способны были «приложить руку» к документу – лишь в единичных случаях «руку прикладывает вместо» подающего запись подканцелярист. Такой уровень грамотности объясняется, с одной стороны, высоким достатком населения края, с другой стороны, созданием на Урале по инициативе В. Н. Татищева сети заводских школ.
В отдельную группу можно выделить тексты, являющиеся копиями. Из всех более чем ста документов порядка 40 являются копиями. Они различны по своему качеству – от аккуратных, выполненных каллиграфическим почерком, до довольно скверных по качеству, изобилующих ошибками и описками. Копии последнего рода представляют собой особенно ценный материал, так как наряду с механическими ошибками в них могут отражаться элементы идиолекта пишущего, и, в конечном итоге, этот материал может дать представление о состоянии говора изучаемого периода. Копирование документов представляется совсем иным, нежели порождение (даже по строго определенным шаблонам) письменной речи. Все четыре рассматриваемые про-мемории являются копиями.
Предметом детального рассмотрения являются три промемории, посвященные взысканию денег с крестьян и представляющие собой три связанных друг с другом отчета. В каждом последующем отчете сообщается сумма, подсчитанная в предыдущем, а также сообщается, кем было произведено предыдущее взыскание. Таким образом, соответствующий фрагмент в каждой последующей промемории увеличивается наподобие «снежного кома». Четвертая содержит информацию о выдаче денег Пыскорской заводской канторе от воеводской канцелярии Соли Камской. Формуляр первых трех промеморий довольно жестко структурирован. В этих документах отчетливо выделяются 4 клаузулы. Формуляр четвертой не содержит некоторых клаузул первых трех текстов, но в нем также можно найти общие для других промеморий структурные элементы – начальный и конечный блок. В основном содержании этого документа нельзя выделить соответствующих клаузул, так как нет материала для сопоставления, поэтому он будет рассмотрен только с точки зрения лексики.
Все четыре промемории являются копиями документов, присланных из Соли Камской. Они были составлены «для справки» по приказанию начальника Пыскорского медеплавильного завода Алексея Калачева. Все копии сделаны разными писцами, причем две последние промемории поступили в один день – 29 июля 1741 г., но несмотря на это, написаны разными переписчиками.
Ниже приводятся отрывки из текстов памятников. Арабскими цифрами обозначаются клаузулы, римскими – их более мелкие относительно самостоятельные смысловые части, совпадающие в клаузулах разных документах. Разночтения в параллельных местах обозначены жирным курсивом.
Первая клаузула содержит традиционную для большинства деловых текстов информацию об участниках переписки и, за исключением различного употребления дублетных и выносных букв, а также слитного и раздельного написания названия Соли Камской, совпадает во всех четырех документах:
-
(1) (I) Солика-мскои iска-нцеляриi воеводского пра-в/ления впыска-рскую заво-дскую кантору (60 л.)
-
(1) (I) Соликамскои исканцеляриi воеводского правления впы/скорскую заводскую кантору.../ (63 л.)
-
(1) (I) Соли ка-мскои иска-нцеляриi воево-дскаго пра-вления впы/ска-рскую заво-дскую кантору.../ (79 л.)
-
(1) (I) Соли камскои iсканцелярiи воеводского пра/вления в пыскорскую з аво-дскую кантору.../ (80 л.)
Вторая клаузула содержит информацию о полученном канцелярией Соли Камской задании по сбору денег с крестьян (для удобства она разделена на смысловые блоки). Создатель документа пересказывает содержание промеморий, в которых дается это задание. Отрывки можно условно разделить на три части: в первой утверждается, что воеводской канцелярией получены документы с запросами (промемории и реэстры); во второй разъясняется суть запросов: следует взять с крестьян деньги «за непоставку дров»; в третьей говорится о реэстрах, содержащих информацию о конкретных должниках («с кого и коликое число взыскать»):
-
(2) (II) сего 1741-г году вра-зныхъ мце-х ичи-сле-х/ присла-нны иsонои пыско-рскои заво-
- д/скои ка-нторы промемориi - ипринихъ/ соω-бщены реестры (60 л.)
-
(III) покоторымъ веле/но вsыскать черды-нского уезда ра-зныхъ/ стано-в скрестя-н занепо-ставку кпы/ско-рски-м казенымъ меднымъ заво-да-м уго-л/ ныхъ дро-в днгъ (60 л.)
-
(2) (II) сего 1741-г году вразныхь/ мцехъ iчислехъ присланы соликамскои вканцелярию/ изонои пыскорскои заво-дскои канторы премемориi/ ипринихъ со-бщены реэстры (63 л.)
-
(III) которыми требовано/ овзысканiи чер-дынского уезду разныхъ стано-в идереве-н / скрестьянъ занепоставку кпыскорскимъ казен-нымъ / меднымъ заводамъ уголныхъ дровъ днгъ (63 л.)
-
(2) (II) сего 1741 го-(ду) вразны-х М-сце-х iчисле-х присланы/ соли камскои вканцелярию isонои пыскоръ/ скои заво-дскои канторы промеморiи iприни-х/ реэстры (80 л.)
-
(III) которыми требовано овзысканiи / чер-дынского уезду разны-х стано-в iдеревень: / скрестьянъ занепоста-вку кпыскорскимъ:/ казен-ны-м ме-днымъ заводамъ попо-дрядомъ / угол-ъны-х дровъ денегъ (80 л.)
-
(IV) аского имя-нны иколикое/ число днгъ взыскать – тому значитъ/ всоω-бщеныхъ реестрах iмя-нно иповsы/ сканиi при-слать воωную пыс-ка-рскою/ заво-дскую ка-нтору немедлено/ (60 л.)
-
(IV) аского/ имяны иколикое число взыскать днгъ тому зна/читъ всоо-бсченныхъ реэстрахъ имяннои (так в ркп) иповзыска/ нiи прислать во-оную кантору/ (63 л.)
-
(IV) аского iмяны iколи/кое число взымать денегъ тому значи-т/ всоо-бщенны-х реэстра-х iмянно i повзыска/нiи прислать вооную пыскор-скую заво-дскую/ кан-ътору/
При анализе разночтений выясняется, что писцами используются следующие параллельные конструкции: и при них сообщены реэстры – и при них реэстры; по которым велено взыскать – которыми требовано овзысканiи; взыскать денег – взымать денег; станов – станов и деревень ; кроме того, только в третьей промемории за непоставку денег дополняется уточнением по подрядом . Представляет интерес, является ли использование конструкций велено взыскать / требовано о взыскании свободным варьированием или же отличающаяся формула во втором и третьем случаях свидетельствует о вторичности этих документов по отношению к первому.
В третьей клаузуле содержится отчет о выполнении задания Пыскорской конторы, причем во второй и третьей промемориях говорится о том, что отчет вторичен, и указывается уже взятая с крестьян сумма: взыскано ныне поонымъ реэстрамъ к прежде посланнымъ кдватцати одному рублю идевяносту девяти копеикамъ / да нынѣ взыскано к пре-жде посланнымъ денга-м:
(3) (V) апоспра-в/ке солика-мскои вка-нцеляриi взыска-нно/ поωны-м реестра-м че-рдынского уеsду ра-зны-х/ стано-в идеревень икрестя-н аимя-нно
-
(V) апосправке соли/камскои вканцелярiи взыскано ныне поонымъ/реэстрамъ кпрежде посланнымъ кдватцати/одному рублю идевя-носту девяти копеикамъ/ счетвертью чердын-ского уезду разныхъ стано-в/идеревень скресть-янъ днгъ пятьдесятъ одинъ/рубль девяносто дв ѣ копеики счетвертью аско-г / имяны взыскано тому присемъ значитъ реэстръ /
-
(V) данын ѣ взыскано кпре-жде/ посланнымъ денга-м чердынского уезду/ разны-х становъ iдеревень скрестьянъ / сорокъ четрые рубли девяносто шестъ/ три четверти коп ѣ екъ аского iмяны/ взыскано тому присемъ значитъ реэстръ
В третьей клаузуле третьей промемории содержится также довольно длинная вставка с указанием на недовольство воеводской канцелярии тем, что квитанции о приеме денег в Пыскорской заводской канторе заверялись только подписью подканцеляриста Мещерякова, тогда как в постановлениях самой конторы требуется подпись «судящаго» этой конторы. Вследствие этого воеводская канцелярия «имеет сумнительство» в полученных квитанциях. Ниже приводится весь текст вставки:
-
(I) взыскано сооны-х по-дрятчиковъ чердын-ского уезду/ скрестьянъ i при промемория-х во оную пыско-р/скую з аво-дскую кантору послано аимя-нно/
-
(II) iюня 18 соли камскои сро-зсы-лщиками/ iваномъ сушниковымъ дватцать одинъ/ рубль девяносто девять счетвертью=/ коп ѣ екъ
-
(III) того-ж iюня 30 числъ (так в ркп) спав-ломъ/ сбеляевымъ пятьдесятъ одинъ рубль=/ девяносто дв ѣ споловиною копеики
-
(IV) вкото/ры-х денга-х даны iмъ ро-зсыл-ъщикамъ iзоне-х (так в ркп)/ пыскорскои заво-дскои канторы росписки/
-
(V) сушникову писанная iюня 23 вдватцати/ о-дномъ рубле вдевяносте вдевяти счетвертью/ копеика-х
-
(VI) павлу беляеву сего iюля 3 дня впяти/ десяти о-дномъ рубле вдевяносте вдву (так в ркп)/ споловиною копеика-х
-
(VII) которые росписки:/ даны тол-ъко зао-дною справою по-лдканцеля/риста якова Мещерякова
-
(VIII) апо-длежалобы/ в прием ѣ те-х денегъ дать оны-м ро-зсыль/щикамъ квитанцыи iли рос-
- писки заза/крепо-и то-и пыскорскои заво-дскои канторы / судящаго анезао-дною означенного по-дка/нъцеляриста Мещерякова рукою
(IX) понеже/ прошедшаго апреля 17дня сего 1741 го-ду/ в присланнои промеморiи iзонои за-водъ/скои канторы соли камскои вканцеля/рию ме-жду протчимъ написано что-б в подъ/ставкѣ (так в ркп) дровъ крестьяномъ дровянымъ/ по-дрятчикамъ вѣдатца с теми кто о-тни-х/ дрова принима-л iли оного о-тписи зару/ками iмѣютъ
(X) i того ради соли камскои/ канцелярия во-оны-х росписка-х что зао-дною/ по-дканцеляри стовою (так в ркп) рукою i мѣетъ сумъ/нител-ъство
Язык вставки отличается свободой композиции, употреблением элементов живой разговорной речи: написано, чтоб ... подрятчикамъ в ѣ датца с теми, кто от них дрова принимал ; i того ради соли камскои/ канцелярия вооны-х росписка-х что зао-дною/ по-дканцеляристовою рукою iм ѣ етъ сумъ/нител-ъство. Обращает на себя внимание сложная подчинительная конструкция с последовательным подчинением: в которых денгах даны iмъ росписки .... которые росписки / даны тол-ъко зао-дною справою по-лдканцеля*/ риста якова Мещерякова. Форма подканцеляристовою (рукой) , вероятно, является окказиональным образованием, свидетельствующим о спонтанности речи в рассматриваемой вставке.
Следует заметить, что первая промемория отличается от двух последующих отсутствием приложенного к ней отдельного реэстра: информация о взятых с крестьян деньгах содержится прямо в тексте этой промемории сразу после слов а имянно III-й клаузулы, тогда как в двух других случаях приводится формула а ского имянно взыскано, тому присем значитъ реэстръ , после чего писец без упоминания конкретных фамилий сразу же переходит к четвертой клаузуле.
В четвертой клаузуле подводятся итоги: с одной стороны, повторяется указание отослать деньги в Пыскорскую заводскую контору, с другой – констатируется выполнение этого указания:
-
(4) (IV) того ради указу iпоопределенiю со-лика-м/скои ка-нцеляриi велено посиле оныхъ/ Промемореи оsначеные вsыска-нные денгi/ отослать воωную заво-дскую ка-нто/ру
-
(V) которые iпосла-нны присеи промемориi соли ка-мскои росши-лшико-м ивано-м суш-ни/ковымъ адоста-лные денги вsыскиваются/ иповзысканиi пришлются немедлено/
-
(4) (IV) того ради поуказу ипоопределению
солика-мскои/ канцелярiи велено посиле оныхъ промемореи/ взысканные денги послать вооную заво-дскую/ кантору
(V) которые ипосланы присеи промеморiи/ соли камскои срозсылшикомъ павломъ беляе-вымъ/ адоста-лные днги ского на-длежитъ взы-скиваютца/ иповзысканiи пришлютца немедленно/
-
(4) (IV ) того ради поуказу iпоопределению/ соли камскои канелярiи велено посiле/ оны-х промемореи взысканные денги/ послать во оную заво-дскую кантору/
-
(V) которые присеи промеморiи iпосла/ны со-ликамскои сро-зсыл-ъщикомъ/ iваномъ швечико-вы-м адосталные/ денги ского на-длежитъ взы-скиваютца/ i повзысанiи пришлютца неме-длено
Интересным случаем, свидетельствующим о низкой компетентности писцов, а также, возможно, о редактировании документов переписчиками, является превращение архаичной причинной конструкции того ради указу в избыточную конструкцию того ради по указу. Введение в текст второй и третьей промеморий добавления с кого надлежит, вероятно, также связано с вторичным характером промемории.
-
(VI) ипыска-рская заво-дская ка-нтора оп-ри/еме уоsначенъного ра-зсы-лшика помя-ну/тыхъ денегъ иоуведо-млениi соли ка-мскоi/ ка-нцелярию писмено да-благо волитъ учи/ нить укаsу iюня 18 дня 1741-г году
-
(VI) ... ипыско-р/ ская заво-дская кантора оп-риеме уозначе-нного/ розсылшика понижепи-санному реэстру днгъ / иоуведомленiи солика-мскои канцелярiи писме-н/ но даблаговолитъ учинитъ поуказу июня 30 дня/ 1741 году
-
(VI) i пыскорская заво-дская кантора/ о при-ем ѣ уозначенного ро-зсыл-ъщика/ по ниже писанному реэструденегъ (так в ркп)/ иоуведомленiи овышеписанномъ/ овсемъ со-ликамскои канцелярию (так в ркп)/ писменно даблаговолитъ учини-т/ поуказу июля 28 дня 1741 году
Различие приведенных клаузул состоит в употреблении в первом случае конструкции помянутых денег , во втором – по нижеписанному реэстру, что отчасти, видимо, продиктовано тем, что в первом случае статистические данные находятся выше, в третьей клаузуле, а в других случаях – в приложенном отдельном реэстре. Обращает на себя внимание тот факт, что, как и в предыдущей клаузуле, в первой промемории со-жержится форма указу , причем на этот раз предпочтительной кажется форма по указу . Третья, конечная промемория содержит, помимо всего прочего, добавочное о вышеписанном о всем, что подчеркивает ее резюмирующий характер.
Каждая промемория, как и все другие документы рассматриваемой книги, снабжена пометой и исполнением, представляющими собой резолюцию на документ и отчет о ее выполнении соответственно. Резолюция составлялась непосредственно начальником завода Алексеем Калачевым, отчет – неизвестным служащим конторы, однако всегда одним и тем же, о чем свидетельствует почерк. Эти тексты, рассмотрение которых выходит за рамки задач, поставленных в настоящей статье, представляют собой вторичные по отношению к первичным текстам структуры, так как в них информация из промеморий повторяется и обобщается.
Общей жанровой чертой, свойственной рассмотренным документам, можно назвать сосуществование реальной и ирреальной модальностей, четко разграниченных в рамках смысловых блоков, – велено взыскать/которые и взысканы; велено послать / которые и посланы . Эта вопросно-ответная формула является довольно древней и встречается в документах XVI– XVII вв. Следует отметить, что подобная синтаксическая формула свойственна современной разговорной речи: «Я его звал – он и пришел».
Особенно интересным явлением представляются ошибки писцов при копировании. Так, в первой промемории неизвестный или неопознанный в нагромождениях подчинительных конструкций топоним Лимеш разделяется писцом на известные ему слова: погоста Лимеша написано как пого стали меша (начертание п очень близко к трехмачтовому т ). В следующей строчке дрвни девятковы написано также отдельно: девять ковы . Очевидно, работа по копированию документов представляла собой чисто механическое действие, переписчики нередко (а возможно, и постоянно) не вникали в суть переписываемого, копируя не текст, а отдельные знакомые слова.
При этом, судя по подписям, все три проме-мории составляли одни и те же авторы и можно было бы ожидать одинаковых написаний, тем не менее в одних и тех же позициях в одном случае находится сообсчить, сообсчены , а в другом – сообщить, сообщенны. Вероятно, орфографическое расхождение лексически одинаковых фрагментов произошло именно на этапе копирования.
Если же говорить о непосредственных создателях документов, то, насколько можно судить по зафиксированной вариативности формуляра, документы промеморий составлялись с помощью хорошо известных на память формул, чем и объясняется названная вариативность.
Промемории содержат материал по лексике изучаемого периода. Так, выявлены слова, отно- сящиеся к делопроизводству канцелярии: сообщены (в значении переданы), взыскать, репорт, (при том) значит (в значении содержит информацию), отпись, доимочная книга, вексиль; лексическая группа, связанная с осуществлением непосредственной деятельности завода: розъ-сылшикъ (разсылшикъ, росшилшикъ), росхот-чикъ, кондуктор, достальные (в значении оставшиеся), манеты (род. п. манетов), пятикопе-ешник, денежка (род. п. денежок), полушка (род. п. полушек), сорт (по сортам), непоставка, вѣдатца (с кем), суменителство (в устойчивом словосочетании имеетъ сумнителство).
Итак, проведенный анализ приводит нас к следующим выводам. Рассмотренные пыскор-ские промемории обнаруживают, с одной стороны, единство формуляра, общие шаблоны, используемые при создании текста, с другой – определенную свободу содержания, обусловленную внеязыковыми факторами. Каждый из последующих текстов дублирует содержание предыдущего, чем и обеспечивается целостность всех трех текстов. Формулы, используемые составителями документов, допускают определенную вариативность в рамках синонимии, что, при наличии одного и того же автора, вероятнее всего, указывает на то, что эти формулы воспроизводились по памяти. Модальность промеморий в одних фрагментах оказывается императивной, в других – реальной. Общая структура документа как раз и складывается из чередования-сопоставления императивной и реальной модальности: велено взыскать / которые и взысканы , велено послать / которые и посланы . Народно-разговорные конструкции ( велено взыскать – которые и взысканы ) сосуществуют в текстах с характерными для книжной речи цепочками последовательно подчиненных друг другу предложений. Особый интерес представляет процесс копирования документов: с одной стороны, в лексически однородных фрагментах, переписанных разными почерками, обнаруживаются расхождения орфографии, с другой стороны, непонятные топонимы копиисты заменяют понятными словами, при сочетании не имеющими смысла.
Примечание
-
1 Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ №14-04-00437 «“Свое” и “чужое” в условиях межкультурного взаимодействия (на материале памятников письменности, живой речи и ономастики Пермского края», №12-3401043 «Традиционная культура Пермского края по данным лексики говоров и памятников письменности Пермского края», №14-34-01279 «Со-
- хранение и исследование лингвистического наследия поликультурного региона: применение информационных технологий».
Assistant of Russian as a Foreign Language, Latin and Terminology Fundamentals Department Perm State Medical Academy
Список литературы Лингвистические особенности региональных памятников XVIII в. (на материале пыскорских промеморий)
- Аникин Д. В. Исследование языковой личности составителя «Повести временных лет»: автореф. дис.... канд. филол. наук. Барнаул, 2004. 19 с
- Бондарчук Н. С., Кузнецова Р. Д. Опыт реконструкции языковой личности рубежа XVIII-XIX вв. как социального типа: «Летопись о событиях в Твери...» М. Тюльпина//Среднерусские говоры: проблемы истории. Тверь, 1994. С. 25-34
- Дерягин В. Я. Лексико-семантический анализ группы деловых текстов//Памятники русского языка: вопросы исследования и издания. М., 1974. С. 202-223
- Жуковский А. С. Висимский медеплавильный завод в XVIII-XIX вв.//Исследования по истории Урала: сб. ст./Перм. гос. ун-т. Пермь, 2005. С. 108-118
- Запарий В. В. Управление горнозаводской промышленностью России в XVI-XX вв.//Металлургическая промышленность России XVIII-XX вв. Саранск; Екатеринбург: Изд-во Центр. истор.-социол. ин-та МГУ им. Н. П. Огарева, 2007. С. 97-142
- Иванова Е. Н. Языковая личность в условиях формирования норм русского литературного языка (первая половина XVIII века): На материале писем и распоряжений А. Н. Демидова: автореф. дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 18 с
- История Урала с древнейших времен до 1861 г. М.: Наука, 1989. 607 с
- Котков С. И. Памятники русской письменности и историческая диалектография//Вопросы языкознания. 1975. Вып. 2. С. 12-21
- Лопушанская С. П. Языковая личность казака (по скорописным документам XVII в.)//Вопросы краеведения: Материалы краеведческих чтений. Волгоград, 1993. Вып. 2. С. 164-167
- Майоров А. П., Русанова С. В. Памятники забайкальской деловой письменности XVIII века. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2005. 260 с
- Полякова Е. Н. Словарь лексики пермских памятников XVI -начала XVIII века: в 2 т./Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. Т. 1. А-О
- Попова О. В. Языковая личность Ивана Грозного (на материале деловых посланий): автореф. дис.... канд. филол. наук. Омск, 2004. 19 с
- Речевое пространство Северного Прикамья в синхронии и диахронии/Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова, Л. М. Пантелеева, М. В. Толстикова/Соликам. гос. пед. ин-т. Соликамск, 2011. 264 с
- Черноухов А. В. История медеплавильной промышленности XVII-XIX вв. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. 1988. 183 с
- Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании//Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 24-39
- Ясинская М. Б. Лексические заимствования в Петровскую эпоху и языковая личность (на материале историко-биографической прозы князя Б. И. Куракина): автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 2004. 25 с