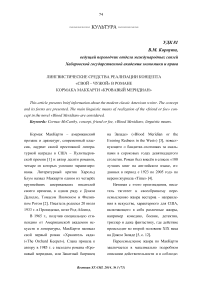Лингвистические средства реализации концепта «свой - чужой» в романе Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»
Автор: Корнута В.М.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В этой статье представлена краткая информация о современном классическом американском писателе. Представлены концепция и формы. Рассмотрены основные лингвистические средства реализации концепции «друг или враг» в романе «Меридиан крови».
Короткий адрес: https://sciup.org/14319849
IDR: 14319849
Текст научной статьи Лингвистические средства реализации концепта «свой - чужой» в романе Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»
Кормак МакКарти – американский прозаик и драматург, современный классик, лауреат самой престижной литературной награды в США – Пулитцеров ской премии [1] и автор десяти романов, четыре из которых успешно экранизированы. Литературный критик Харольд Блум назвал Маккарти одним из четырёх крупнейших американских писателей своего времени, в одном ряду с Доном Делилло, Томасом Пинчоном и Филип пом Ротом [2]. Писатель родился 20 июля 1933 г. в Провиденсе, штат Род-Айленд.
В 1965 г., получив специальную стипендию от Американской академии искусств и литературы, МакКарти написал свой первый роман «Хранитель сада» («The Orchard Keeper»). Слава пришла к автору в 1985 г. с выходом романа «Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на Западе» («Blood Meridian or the Evening Redness in the West») [3], повествующего о бандитах-охотниках за скальпами в сороковых годах девятнадцатого столетия. Роман был внесён в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год» по версии журнала «Time» [4].
Начиная с этого произведения, писатель тяготеет к своеобразному переосмыслению жанра вестерна – направления в искусстве, характерного для США, включающего в себя различные жанры, например комедию, боевик, детектив, триллер и даже фантастику, где действие происходит во второй половине XIX века на Диком Западе [5, с. 12].
Переосмысление жанра по МакКарти заключается в максимально подробном описании действительности и в соблюде- нии исторического контекста, игнорируя остальные детали жанра. Таким образом, основным стилем автора является натурализм. Натурализм – поздняя стадия развития реализма, художественный метод, для которого характерно стремление к внешнему правдоподобию деталей, к изображению единичных явлений без обобщений и типизации [6]. Ключевое отличие натурализма от классического реализма в том, что герои натуралистических произведений не несут ответственности за свою жизнь, у них просто нет выбора. Многие персонажи натуралистов – беспомощные продукты окружающей среды и плохой наследственности, которых двигают по жизни животные инстинкты, удовлетворению же этих инстинктов мешают непреодолимые социальноэкономические реалии. Персонажи «Кровавого меридиана» практически полностью соответствуют данному определению.
Данная статья посвящена исследованию концепта «свой – чужой» в главном произведении Кормака МакКарти «Кровавый меридиан». Предметом исследования являются лингвистические средства в реализации концепта. Объект исследования – концепт «свой – чужой». Материал исследования – роман «Кровавый меридиан». Целью исследования является определение и рассмотрение лингвистических средств реализации концепта «свой – чужой» в романе «Кровавый меридиан».
Термин «концепт» появился в научной литературе лишь в середине XX в., хотя его употребление зафиксировано в 1928 г.
в статье С.А. Аскольдова «Концепт и слово». Под концептом автор понимал «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода».[7, с. 30]. В современной лингвистике можно выделить три основных направления, или подхода, к пониманию концепта – лингвистическое, когнитивное, культурологическое. Лингвистические подходы на природу концепта представлены точками зрения Д.С. Лихачева, и В.Н. Телия [8, с. 97].
В частности, Д.С. Лихачев [9, с. 47], принимая в целом определение С.А. Аскольдова, считает, что концепт существует для каждого словарного значения, и предлагает рассматривать концепт как алгебраическое выражение значения. В целом представители данного направления понимают концепт как весь потенциал значения слова вместе с его коннотативным элементом.
Приверженцы когнитивного подхода к пониманию сущности концепта относят его к явлениям ментального характера. Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин [10, с. 4] относят концепт к мыслительным явлениям, определяя его как глобальную мыслительную единицу, «квант структурированного знания». Представители третьего подхода при рассмотрении концепта большое внимание уделяют культурологическому аспекту. По их мнению, вся культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. Концепт трактуется ими как основная ячейка культуры в ментальном мире че- ловека. Этого взгляда придерживаются Ю.С. Степанов и Г.Г. Слышкин. Они убеждены, что при рассмотрении различных сторон концепта внимание должно быть обращено на важность культурной информации, которую он передает.
Ю.С. Степанов пишет, что «в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная форма (этимология), сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д.». [11, с. 41].
Иными словами, концепт признается Ю.С. Степановым базовой единицей культуры, её концентратом.
Термин «концепт» в последнее время активно употребляется не только в современной лингвистике, культурологии, но и в литературоведении. Данный аспект является художественным. Наиболее близким понятию художественного концепта в его литературоведческом значении соответствует определение О.В. Беспаловой. Она трактует художественный концепт как «единицу сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений и выражает индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [12, с.11].
Иной подход демонстрирует JI.B. Миллер, предложившая понимание художественного концепта как ментального образования, принадлежащего «не только индивидуальному сознанию, но и (в качестве составляющей эстетического опыта) психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества» как «универсаль- ного художественного опыта, зафиксированного в культурной памяти и способного выступать в качестве строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [13, с. 42].
В.Г. Зусман, обосновывая включение понятия «концепт» в терминологический аппарат литературоведения, указывает, что обращение к концепту открывает новые возможности в представлении литературы в качестве коммуникативной художественной системы: «Литературный концепт – такой образ, символ или мотив, который имеет «выход» на геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения» [14, с. 14]. Именно включённость в ассоциативную сеть культуры делает литературный образ концептом.
«Свой – чужой» является одним из центральных концептов культуры. Следовало бы точнее определять его как «своё – чужое». Этот концепт носит универсальный характер, поскольку он присущ художественному творчеству, научному и бытовому мышлению. В основе всякого сравнения и сопоставления лежат механизмы тождества и различения своего и чужого. Рассмотрение концептов «свой – чужой» в первую очередь представлено лексикографическим анализом данных лексем. Обратимся к нескольким словарям. В толковом словаре русского языка 2004 г. под редакцией С.А. Кузнецова лексемы «свой» и «чужой» имеют пять значений:
Свой
-
1. Принадлежащий или свойственный себе : изложить свои мысли, своя голова
-
2 . Собственный, составляющий имущество или достояние отдельного лица, учреждения : иметь свою машину.
-
3 . Относящийся к себе как члену какого-либо коллектива, какой-либо общности, связанный отношениями родства, общим местом работы, взглядам и т.п. : пойти в кино со своим классом; бросить свою семью; не иностранный, не заимствованный; родной, отечественный : говорить на своем языке; пользоваться своими энергоресурсами.
-
4 . Своеобразный, свойственный только кому-, чему-либо одному, данному или единому : вырабатывать свой стиль.
-
5 . Соответствующий кому-, чему-либо; подходящий для данных условий, обстоятельств, лиц и т.п : выполнить свой долг; на всё есть свои правила [15, с. 727].
на плечах; совершаемый, изготовляемый и т. п. лично, самим : жить своим трудом; исходящий от самого себя; не купленный, домашнего приготовления или самостоятельно выращенный: картошка своя ; не искусственный, не поддельный, естественный : свой цвет лица.
Чужой
-
1. Являющийся собственностью другого (других); не имеющий непосредственного отношения к кому-либо; не свой : прихватить чужой зонт.
-
2. Не являющийся родиной; не такой, как на родине : жить на чужой сторонушке; не местный (обычно иностранный) : чужой язык.
-
3. Не связанный родственными отношениями; посторонний : воспитывать чужого ребёнка.
-
4. Не связанный близкими отношени-
- ями с кем-либо, не совпадающий по духу, взглядам, интересам; далекий: чужие по взглядам.
-
5. Отчужденный, отрешённый: лицо у неё было совсем чужое; он посмотрел на меня каким-то чужим взглядом [15, с. 929].
«Свой - чужой», являясь составным многоуровневым концептом, получает различные интерпретации в филологическом, социологическом, философском и других дискурсах. Так, в философском дискурсе закладывается базис концепта «свой - чужой», формулируется его определение в самом общем виде, рассматриваются социальные и психологические его составляющие. В социологическом аспекте данный концепт исследуется как проявление внутренней дифференциации общества, описывая взаимоотношения между отдельными социальными группами. Исследуемый концепт истолковывается в ряде филологических исследований (В.В. Колесов [16, с. 78], А.Б. Пеньковский [17, с. 54]). В этих работах отмечаются основные семантические признаки данной оппозиции в НК: «свой» мир -мир уникальных и индивидуальных объектов, конкретный, близкий, родственный; «чужой» мир - это масса, толпа, социально и культурно чуждая и враждебная, опасная иноземная, инородная, посторонняя, далекая и неведомая.
«Свой - чужой» в репрезентации МакКарти оказывается шире, чем только лексическое значение прилагательных. В связи с этим есть необходимость рассмотреть его в качестве концепта, то есть художественной единицы, в диалоге культур как современных, так и исторически удалённых, как территориально смежных, так и разделённых непреодолимыми географическими и смысловыми расстояниями. Каждая культура стремится при контакте с другой вычитать в ней «своё» (и интерпретировать её по преимуществу в этом ключе, тем самым «осваивая» её собственными ментальными и языковыми средствами) и, напротив, отторгнуть «чужое» (соответственно осуждая его, дискредитируя, вытесняя или замещая его «своим», по-своему его вербализуя).
При анализе романа Кормака МакКарти «Кровавый Меридиан» мы выделяем концепт «свой – чужой», актуальный слой которого включает в себя образную систему, мотивы и проблематику, позволяющие раскрыть своеобразие человеческих характеров и взаимоотношений в жёстких военных и враждебных условиях, различие культур и систем ценностей, определяющих нормы поведения, присущие «своим» или «чужим». В описании данных аспектов писатель использует различные лингвистические средства, некоторые из них мы рассмотрим на примерах ниже:
«They is four things that can destroy the earth, he said. Women, whiskey, money, and niggers».
В данном изречении ярко выражена аллюзия на Четырех всадников Апокалипсиса [18] из шестой главы «Откровения Иоанна Богослова», последней из книг «Нового Завета». По словам одного из героев романа, принимая во внимание исторический период и социологические особенности повествования, есть четыре вещи, которые могут погубить мир: «Женщины, виски, деньги и негры». Здесь подразумевается негативное отношение к людям негроидной расы.
«What we are dealing with, he said, is a race of degenerates. A mongrel race, little better than niggers. And maybe no better. There is no government in Mexico. Hell, there's no God in Mexico. Never will be».
В этом абзаце использована симплока при повторении связующих элементов, таких как существительное «нация», наречие «лучше», частица «нет». Данный лингвистический приём использован с целью включения оскорбительных эпитетов «дегенераты», «полукровки» и «черномазые», выражающих отрицательные коннотации, направленные в адрес мексиканского народа времен Фронтира.
«Back to a bunch of barbarians that even the most biased in their favor will admit have no least notion in God's earth of honor or justice or the meaning of republican government. A people so cowardly they've paid tribute a hundred years to tribes of naked savages».
Здесь МакКарти продолжает изображать своих персонажей убеждёнными «американцами-идеалистами» ненавидящими как индейцев, так и мексиканцев, прописывая их ненависть в резких репликах, наполненных негативными нареканиями, такими как «варвары», «трусы» и «голые дикари». Помимо этого, автор использует эпитет «благословенная Богом земля», тем самым выражая мысли персонажа американца о том, что такое Америка с её «представлениями о чести и справедливости» и единственно правиль- ном «республиканском правительстве».
«A legion of horribles, hundreds in number, half naked or clad in costumes attic or biblical or wardrobed out of a fevered dream with the skins of animals and silk finery and pieces of uniform still tracked with the blood of prior owners, coats of slain dragoons, frogged and braided cavalry jackets, one in a stovepipe hat and one with an umbrella and one in white stockings and a bloodstained weddingveil and some in headgear of cranefeathers or rawhide helmets that bore the horns of bull or buffalo and one in a pigeontailed coat worn backwards and otherwise naked and one in the armor of a Spanish conquistador, the breastplate and pauldrons deeply dented with old blows of mace or sabre done in another country by men whose very bones were dust and many with their braids spliced up with the hair of other beasts until they trailed upon the ground and their horses' ears and tails worked with bits of brightly colored cloth and one whose horse's whole head was painted crimson red and all the horsemen's faces gaudy and grotesque with daubings like a company of mounted clowns, death hilarious, all howling in a barbarous tongue and riding down upon them like a horde from a hell more horrible yet than the brimstone land of Christian reckoning, screeching and yammering and clothed in smoke like those vaporous beings in regions beyond right knowing where the eye wanders and the lip jerks and drools».
В данном предложении используется полисиндетон, обусловленный частым использованием союза «и» и местоимений «кто», «кто-то». Таким образом Мак-
Карти описывает бойню, используя большое количество метафор и эпитетов, изображает индейских воинов порождениями ада в глазах охотников за скальпами: «Целый легион, сотни воинов ужасающего вида, полуголых или в одеяниях аттической или библейской древности, или разодетых, словно персонажи кошмара, в шкуры животных, в пышные наряды из шёлка и ошмётки военной формы со следами крови бывших владельцев, в мундиры убитых драгунов, кавалерийские мундиры с аксельбантами и галунами, кто в цилиндре, кто с зонтиком, кто в белых чулках и в окровавленной свадебной вуали, одни в головных уборах из перьев журавля, другие в сыромятных шлемах, украшенных рогами быка или бизона, кто-то во фраке, надетом задом наперёд на голое тело, кто-то в панцире испанского конкистадора с глубокими вмятинами на нагруднике и на плечах от ударов булавой или саблей, нанесённых когда-то в другой стране теми, чьи кости уже рассыпались в прах, у многих в косички вплетено так много волос разных животных, что они волочились по земле, а на ушах и хвостах лошадей виднелись лоскуты ярких тканей; кто-то выкрасил голову лошади ярко-красным, лица всадников размалёваны так грубо и нелепо, что они походили на труппу до смерти уморительных верховых клоунов, и, что-то вопя на варварском наречии, они накатывались адовым воинством, что страшнее адского пламени, каким пугают христиане, пронзительно визжали и завывали, окутанные дымкой, словно туманные существа в ме- стах незнаемых, где блуждает взгляд, а губы дёргаются, пуская слюну».
«Some with nightmare faces painted on their breasts, riding down the unhorsed Saxons and spearing and clubbing them and leaping from their mounts with knives and running about on the ground with a peculiar bandylegged trot like creatures driven to alien forms of locomotion».
Здесь показана бинарная оппозиция лексем «англосаксы и существа». В глазах главного героя «Кровавого меридиана», банда наёмников, в которую он входит, – благородные англосаксы, а индейцы-дикари, брезгливо описываются им как «существа, перемещающиеся по земле на полусогнутых ногах», что означает не их преклонение перед европеоидной расой, а стиль боя «чужого вида».
«They were driven through the cobbled streets with shouts going up behind for the soldiery who smiled as became them and nodded among the flowers and proffered cups, herding the tattered fortune-seekers through the plaza where water splashed in a fountain and idlers reclined on carven seats of white porphyry and past the governor's palace and past the cathedral where vultures squatted along the dusty entablatures and among the niches in the carved facade hard by the figures of Christ and the apostles, the birds holding out their own dark vestments in postures of strange benevolence while about them flapped on the wind the dried scalps of slaughtered indians strung on cords, the long dull hair swinging like the filaments of certain seaforms and the dry hides clapping against the stones».
В данном предложении также присутствует полисиндетон посредством частого употребления союза «и». Таким образом, автор описывает картину приветствия и чествования «американских героев» как «своих», местами используя различные эпитеты: «Их гнали по булыжным улицам, за их спинами звучали приветственные крики, а солдаты в ответ улыбались, как подобало, отвечали кивками на цветы и протягиваемые стаканчики, вели оборванных искателей удачи по главной площади, где плескалась вода в фонтане и на резных сиденьях из белого порфира отдыхали праздные гуляки, и мимо губернаторского дворца, и мимо собора». Помимо этого здесь есть противопоставление, выраженное мрачными эпитетами и метафорами о городе, где, несмотря на «резной фасад рядом с фигурами Христа и апостолов» Бога уже давно нет: «На фасаде восседали стервятники, простиравшие свои тёмные одеяния в позах странной благожелательности, а вокруг, развешанные на верёвках, трепетали на ветру высушенные скальпы убитых индейцев, и длинные волосы их раскачивались понуро, словно волокна каких-то морских тварей, а высохшая кожа хлопала по камням».
«Blood, he said. This country is given much blood. This Mexico. This is a thirsty country. The blood of a thousand Christs. Nothing».
В данном абзаце использована парцелляция, соединяющая самостоятельные отрезки, графически выделенные как отдельные предложения, где Мексика как страна приобретает негативные коннотации в интерпретации главы банды наём- ников: «Кровь. Этой стране отдано много крови. Это Мексика. Эта страна хочет пить. Кровь тысяч Христов. Ничего».
«About that fire were men whose eyes gave back the light like coals socketed hot in their skulls and men whose eyes did not, but the black man's eyes stood as corridors for the ferrying through of naked and unrectified night from what of it lay behind to what was yet to come».
Здесь автор противопоставляет «белых и черных» американцев, отождествляет их глаза с зеркалом души, описывает их мироощущение и гадает о дальнейшей судьбе негров на одном конкретном примере, используются метафоры и эпитеты: «У некоторых сидевших вокруг костра глаза отражали свет огня и сверкали, точно горящие угли в черепах, у других ничего подобного не происходило, а вот глаза негра открылись целыми коридорами, через которые хлынула ночь, оголённая, со всем, что в ней было, и та её часть, что уже прошла, и та, что ещё не наступила».
В данной статье были рассмотрены лингвистические средства реализации концепта «свой – чужой» в романе Кормака МакКарти «Кровавый меридиан». Прежде всего, МакКарти натуралистично препарирует жителей Америки XIX в., вражду народов, населявших её, и человеческую сущность. Его герои обладают определённой степенью цинизма, жестокости, мнительности, и автор не требует от читателя сопереживания. Несмотря на это они предельно честны. Автор проводит отстранённый, но достаточно тщательный анализ оппозиции своих и чужих в рамках национальных военных конфликтов на территории США во время эпохи Фронтира. У писателя есть своя точка зрения и идейно-нравственные основы. На них основываются исследования восприятия, осмысления и изображения своих и чужих, союзников и врагов не только в русле определённых идеологических установок и социальных проблем, но и в их общечеловеческом, нравственноэтическом содержании.
Таким образом, у МакКарти в его романе концепт «свой – чужой» иногда утрачивает резкую контрастность, теряет смысловую одномерность. Оппозиция нейтрализуется, «своё» и «чужое» переплетается между собой, объединяется. «Своё» превращается в «чужое», «чужое», напротив, приближается к «своему».
Список литературы Лингвистические средства реализации концепта «свой - чужой» в романе Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»
- http://www.pulitzer.org/citation/2007-Fiction
- http://www.avclub.com/article/harold-bloom-on-iblood-meridiani-29214
- McCarthy C. Blood Meridian or the Evening Redness in the West. -Random House, 1985. -327p. -ISBN 0-394-54482-X.
- http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/slide/blood-meridian-1986-by-cormac-mccarthy/
- Карцева, Е. Н. Вестерн. Эволюция жанра/Е. Н. Карцева. -М.: Искусство, 1976. -255 с.
- Недошивин, Г. Натурализм в искусстве: философская энциклопедия: в 5 т./Г. Недошивин, Е. Эткинд; под ред. Ф. В. Константинова. -М.: Сов. энциклопедия. 1960 -1970.
- Аскольдов, С. А. Концепт и слово/С. А. Аскольдов//Русская словесность: антология/под ред. В. П.Нерознака. -М.: Academia, 1997. -276 с.
- Телия, В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический, культурологический аспекты/В. Н. Телия. -М., 1996. -284 с.
- Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка/Д. С. Лихачев//Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология/под общ. ред. В. П. Нерознака. -М.: Academia, 1997. -281с.
- Попова, З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях/З. Д. Попова, И. А. Стернин. -Воронеж, 1999.
- Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры/Ю. С. Степанов. -М.: Языки русской культуры, 1997. -824 с.
- Беспалова, О. В. Концептосфера поэзии Н. Гумилева в её лексикографическом представлении: автореф. дис.. канд. филолог. наук./О. В. Беспалова. -СПб., 2002. С. 24.
- Миллер, Л. В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория/Л. В. Миллер//В сб.: Мир русского слова. -СПб., 2000. № 4. С. 45.
- Зусман, В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка/В. Г. Зусман. -Н. Новгород, 2000. С. 167.
- Кузнецов, С. А. Современный толковый словарь русского языка/С. А. Кузнецов. -М.: Ридерз Дайджест, 2004. -960 с.
- Колесов, В. В. Реализм и номинализм в русской философии языка/В. В. Колесов. -СПб., 2007. -384 с.
- Пеньковский, А. Б. О семантической категории чуждости. Проблемы структурной лингвистики/А. Б. Пеньковский. -М.: Наука, 1989. С. 54 -83.
- Flegg, Columba Graham An introduction to reading the Apocalypse. -St Vladimir’s Seminary Press, 1999. -р. 90. -ISBN 0-88141-131-0.