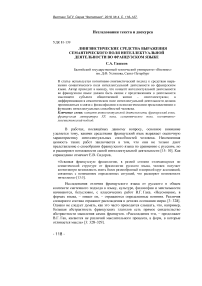Лингвистические средства выражения семантического поля интеллектуальной деятельности во французском языке
Автор: Гашков Сергей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье используется когнитивно-лингвистический подход к средствам выражения семантического поля интеллектуальной деятельности во французском языке. Автор приходит к выводу, что концепт интеллектуальной деятельности во французском языке должен быть связан с представлением о деятельности мыслящего субъекта общественной жизни - «интеллектуала»; а дифференциация в семантическом поле интеллектуальной деятельности должна производиться в связи с философскими и психологическими представлениями о функциях интеллектуальных способностей человека.
Концепт интеллектуальной деятельности, французский язык, французская литература хх века, семантическое поле, когнитивно-лингвистический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/146281302
IDR: 146281302 | УДК: 81-139
Текст научной статьи Лингвистические средства выражения семантического поля интеллектуальной деятельности во французском языке
В работах, посвящёных данному вопросу, основное внимание уделяется тому, какими средствами французский язык выражает оценочную характеристику интеллектуальных способностей человека. Несомненная ценность таких работ заключается в том, что они не только дают представление о своеобразии французского языка по сравнению с русским, но и расширяют возможности самой интеллектуальной деятельности [15: 10]. Как справедливо отмечает Е.В. Сидоров,
«о сваивая французскую фразеологию, в разной степени отличающуюся по семантической структуре от фразеологии русского языка, человек получает когнитивную возможность иметь более разнообразный и широкой круг ассоциаций, связанных с пониманием определенных ситуаций, что расширяет возможности интеллекта» [13:5].
Исследования отличия французского языка от русского в общем контексте системного подхода к языку, культуре, философии и ментальности начинаются, безусловно, с классических работ В.Г. Гака. «Несомненно, в формах языка, – пишет он, – отражаются определенные понятия. Различия словарного состава отражают расхождения в деталях осознания мира» [3: 328]. Однако не следует думать, как это часто приходится слышать, что, например, большая абстрактность французских глаголов есть прямое свидетельство абстрактности мышления самих французов. «Расхождения эти, – продолжает В.Г. Гак, касаются не различий мыслительного процесса, а форм, в которые отливается мысль» [3: 328–329].
Говоря о специфике плана выражения, В.Г. Гак подчеркивает, что французский язык отличается более явным «аналитизмом» [4: 172], а в плане содержания значительно отличается от русского языка содержанием грамматических категорий. Лексические единицы семантически отличаются, как правило, «большей широтой, меньшей специализацией значения, по сравнению с русской лексикой» [4: 284]. Кроме того, В.Г. Гак отмечает очевидную асимметрию знака, проявляющуюся «в развитой многозначности, омонимии и формальной синонимии лексических единиц, в десемантизации слов» [там же].
Предметом исследования в нашей статье является, таким образом, тот «интеллектуальный ресурс», который мы можем обнаружить во французской лексике, семантически связанной с интеллектуальной деятельностью, вне сферы однозначных оценок. Мы должны будем обратиться к истории понятия «интеллектуал» и исследовать те поля, которые являются выражением деятельности интеллектуала, на сравнительных примерах.
В нашем исследовании мы видим три слоя. Первый слой, онтогенетический, обнаруживает изначальную разнородность (или, по крайней мере, двойственность) в оценке понятия интеллектуала и интеллектуальной деятельности. Второй слой, лингвосемантический, связан с системой понятий, выражающих интеллектуальную деятельность в ряде полисемантичных лексических элементов, выступающих в речи как неполные синонимы. Наконец, третий слой связан с присутствием лингвосемантических полей в пространстве живого языка, в частности в литературных произведениях.
Концепт интеллектуала / интеллектуальной деятельности и его двойственность
Слово «интеллектуал» ( intellectuel) во французском языке, как и слово clerc , обозначает, прежде всего, человека умственного труда. Intellectuel «умственный работник» противопоставляется « manuel » –работник физического (буквально, «ручного») труда. Не только писатель, поэт или философ, но и врач, адвокат и т.д., являются «интеллектуалами».
Другой важный смысл слова «интеллектуал» продиктован историческими событиями. Прежде всего, речь идет о так называемом «деле Дрейфуса», когда капитан Дрейфус был незаслуженно обвинён в предательстве. На стороне Дрейфуса выступили такие выдающиеся люди как Э. Золя, А. Франс, Э. Ростан, М. Пруст, Э. Гонкур. Сторонники Дрейфуса были иронически названы их оппонентами «интеллектуалами». Это слово прижилось и обрело определённый контекст: интеллектуал – борец за правду и общечеловеческие моральные ценности.
Третье, прямо вытекающее из второго, значение слова intellectuel связано с тем культурным феноменом во Франции, когда состоявшийся ученый, писатель и философ начинает выступать в средствах массовой информации, высказываясь по тем или иным злободневным вопросам политической и общественной жизни. В этом смысле, понятие «интеллектуал» часто связывается с концепцией «универсального интеллектуала» Ж.П. Сартра. «Интеллектуалов, пишет Сартр, часто обвиняют в превышении полномочий, в том, что они вторгаются не в свою область» [13: 5]. Однако феномен интеллектуала имеет объективную природу. Привыкнув смотреть на мир глазами объективной истины, учёный не поддается господствующей идеологии и способен высказать своё мнение о происходящих событиях. «Итак, интеллектуал - заключает Сартр, - это человек, который осознает оппозицию, в себе и в обществе, между поиском научной истины (со всеми нормами, которых он требует) и господствующей идеологией (со её системой традиционных ценностей)» [там же].
Уже софисты, интеллектуалы Древности, подвергались осмеянию и осуждению. Обвинения, вынесенные Афинским судом Сократу иногда интерпретируются в том смысле, что Сократ - явный софист - «развращал» молодежь мыслью, то есть заставлял её заниматься беспочвенной казуистикой, в то время как, в выигравшей в войне с Афинами, Спарте молодежь готовилась исключительно к военно-гражданской деятельности. Отсюда и ирония Аристофана в комедии «Облака». Сократ находится в «мыслильне», возлежит в гамаке, его ученики не думают о земных вещах, но только о таких, которые не связаны с непосредственной пользой. Они занимаются теоретическими науками: астрономией, геометрией, географией.
« Стрепсиад (кричит): «Сократ! Сократушка!» Сократ: «Что, бедный человечишка?» Стрепсиад : «Скажи сначала, чем ты занимаешься? Сократ : «Паря в пространствах, мыслю о судьбе светил.» Стрепсиад: «В гамак забравшись, на богов взираешь ты. Но почему же не с земли? Сократ (важно и торжественно): «Бессильна мысль // Проникнуть в тайны мира запредельного, // В пространствах не повиснув и не будучи // Соединенной с однородным воздухом. // Нет, находясь внизу и взоры ввысь вперив, //Я ничего б не понял.// Сила земная // Притягивает влагу размышления» [2: 18].
Примечательно, что уже этот древний текст содержит указание на двойственную природу интеллектуала. С одной стороны, он содержит представление о теории, созерцании как основном занятии интеллектуала. Со времён греков, таких как софисты и Сократ, начинается теоретическая наука, знание, которое Аристотель связывал непосредственно со статусом людей, имеющих досуг.
С другой стороны, текст Аристофана содержит критику интеллектуальных занятий в виду их полнейшей житейской бесполезности. Сократ заявляет, что он с небес мыслит о светиле ( aerobatō kai periphrōnō ton hēlion ). Стрепсиад возражает, почему нельзя мыслить (думать) о богах с земли ( tous theous su periphroneis, ouk apo tes ges?). Русский язык также выражает эту «двойственность», которая содержится здесь в греческом periphronein через удвоение глаголов «мыслить» и «думать», «размышлять». «Мыслить», «качаясь в воздухе» - удел немногих, тогда как «думать» «с земли» должен каждый. Впрочем, при сравнении этих синонимов оказывается, что «мыслить» означает думать в виду некоей результативности, создания идей, порождения мыслей. Таким образом, «мыслитель» - это производитель идей, в то время как «думать» и «размышлять» относятся к самому процессу интеллектуальной деятельности.
Интеллектуал выступает, в этом смысле, как своеобразный «денди». Денди является одновременно и аскетом, и агентом Просвещения, как это показывает М. Фуко в своей статье «Что такое Просвещение?». «Добровольно - 120 - избранная современная установка, – пишет Фуко, связана с неизбежным аскетизмом. Быть современными не значит принимать самих себя такими, какими мы являемся в потоке проходящих мгновений; это значит рассматривать себя в качестве объекта сложной и трудной переработки: в соответствии со словарем эпохи Бодлер называет это “дендизмом”» [15: 140]. Цель аскетизма денди современности, подчеркивает Фуко – не сократовское «познай самого себя», а «изобретение самого себя» или «жизнь как произведение искусства» (vie comme une oeuvre d’art), как философ выражается в других произведениях.
Итак, мы видим, что интеллектуальная деятельность на онтогенетическом уровне связана в целом с противоречивыми тенденциями. С одной стороны, интеллектуал подчиняется интеллектуальной обязанности, состоящей в том, чтобы быть объективным и не нарушать целостности научного факта. С другой стороны, чтобы быть и оставаться объективным, ему необходимо развивать свою субъективность, отрабатывая личностные стратегии на уровне творческого саморазвития. Это видимое противоречие находит, на наш взгляд, отражение и на уровне языка и значения.
Если мы проследим судьбы французских интеллектуалов «от дела Дрейфуса до наших дней», то мы сможем наблюдать значительное разнообразие в их тенденциях и умонастроениях. Одни из них относились к «левому крылу», примыкая к коммунистическим или социалистическим группам и партиям, или не примыкая к ним, другие же избирали «правое», консервативное крыло [20: 100]. Таким образом, отличительной чертой, которую мы, в другом смысле определили как теоретико-практическую «двойственность» является свободомыслие и разнообразие. Итак, можно заключить, что концепт интеллектуал / интеллектуальная деятельность образует семантическое поле, содержащее определенную когнитивную двойственность, в которой различаются как оценки «положительная», «негативная», «полезная», «бесполезная», отношение к результату «результативная», «нерезультативная», отношение к выбору «свободная», «несвободная», отношение к образу жизни «созерцательная», «практическая», отношение ко времени «длительная» и «одномоментная».
Лингвосемантическая система лексики, выражающей концепт интеллектуальной деятельности
«Семантическим полем, – пишет М.А. Кронгауз, – следует называть не только само множество слов, но и их семантическое описание…» [7: 152]. Ключевым для описания семантического поля является наличие интегрального и дифференциального признаков. Эти «признаки» не самоочевидны, а выделяются в ходе сравнительного анализа. В качестве ведущего примера возьмем здесь интегральные и дифференциальные признаки глаголов penser и réfléchi r и производных от них существительных pensée и réflexion . Словарь Ларусса приводит следующее различие: penser означает «создавать в уме ( esprit ) идеи», а réfléchi r толкуется как «думать ( penser ) зрело, обдумывать (méditer) в себе самом». Если мы обратимся за толкованием слова méditer , оно означает «подвергать внутреннему рассмотрению ( examen )».
Нужно отметить, что уже в латыни глагол pendo, pependT, pensum, pen-dere, от которого происходит французское penser, помимо основного значения «взвешивать», имел также значение «взвешивать в уме», «оценивать», «полагать» [23: 494]. Частотный же в этом значении глагол putare исходно означал «очищать», особенно «подрезать крону деревьев» (сравните однокоренное «ампутировать»), но также и «подсчитывать», «думать» [23: 548]. Глагол же cogito, хорошо известный благодаря тому же Декарту, хоть и являлся производным от ago и agito, воспринимался уже древними как отдельная лексема со значением «думать», «полагать», и переводился на греческий как epibouleuo и ennoeo [23: 16] .
«Технический и критический словарь философии» А. Лаланда поясняет, что концепт pensee может относиться как к отдельной «мысли» ( une pensee ), так и к «мышлению» ( la pensee ). В широком смысле он охватывает все феномены умственной деятельности ( esprit ). В этом смысле, можно сказать, что это понятие восходит к картезианской ассоциации души ( animus ) и мышления ( cogitare ). «Sum igitur praecise res cogitans, id est, mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio, voces mihi prius significationis ignotae» [6: 46]. Мыслящая вещь – общая субстанция всех феноменов интеллектуальной деятельности: «Res cogitans. Quid est hoc? Nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque et sensiens». («Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что такое вещь мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами») [6: 48]. В таком смысле, уточняет Лаланд, термин pensee уже устарел. В современном значении он означает, скорее, когнитивные способности в их противопоставлении чувствам и желаниям. В собственном смысле, он означает «ум» или «рассудок» в той мере, в какой они позволяют « понимат ь, то, что составляет материю познания». В этом смысле, мышление (pensee) достаточно близко с восприятием ( perception ), представляя собой когнитивный синтез более высокого уровня, чем просто восприятие или воображение. В немецком языке концепту pensee соответствуют Gedanke , Denken , в английском - thought , в итальянском – pensiero .
Концепт reflexion благодаря его употреблению в сенсуалистской философии начиная с Локка, может быть ассоциирован с «отражением», что не является основным его значением. «В собственном смысле, это возвращение мысли к самой себе, которая имеет предметом один из своих спонтанных актов или группу таковых» [19: 904]. В этом смысле, рефлексия связана со «вторичными интенциями» средневековой схоластики. Здесь Лаланд приводит последовательно определения Лейбница («рефлексия – это внимание к тому, что в нас»), Канта («рефлексия ( Uberlegung, reflexio ) есть сознание отношения между различными представлениями, данными нашим различным источникам познания», Мен де Бирана («способность ума ( esprit ) относить группу ощущений или комбинацию феноменов к некоей фундаментальной единице»). В этом последнем смысле, особенно, рефлексивная система связана с сенситивной и перцептивной системами.
Синонимический ряд penser и reflechir возможно связать с семантическим полем, включающим в себя такие узловые концепты как esprit, - 122 - intelligence, méditation, conscience, raison. Все эти концепты во французском языке носят как ярко выраженный когнитивный, так и ярко выраженный социальный характер. Они часто обнаруживают поливалентность значений. Например, esprit означает «дух», «ум», а также «остроумие» и самого «интеллектуала». Сonscience может означать и «сознание» и «совесть». Raison – это и «разум» и «основание для действия». Intelligence обозначает «ум» как способность и как качество. Как мы видим, эта поливалентность всегда двоякая: когнитивно-социальная, психологически-этическая.
Итак, мы можем сделать предварительный вывод, что соотношение синонимических концептов penser и réfléchir в семантическом поле интеллектуал/интеллектуальная деятельность может выступить системообразующим. В отличие от русской пары «мыслить-думать», где центральную роль играет результативность мысли в плане произведения идей, французская пара penser и réfléchir («думать» и «размышлять») выражает, прежде всего, отношение к деятельности, как деятельности когнитивной, что мы находим у Лаланда, так и к деятельности социальной. Концепт интеллектуала / интеллектуальной деятельности является во французском языке, по нашему мнению, концептом одновременно когнитивным и социальным, поэтому он больше привязан к практикам индивида в социальном пространстве. В этом смысле, penser означает располагать некоторыми мыслями, социально значимыми идеями и высказывать и защищать их публично, а réfléchir выражает повторное возвращение к собственной мысли, с целью уточнения, обобщения или поиска правильного решения.
Семантическое поле интеллектуальной деятельности сквозь призму группы концептов penser и réflechir в современной французской литературе
Наилучшим образом описать систему лексики, отражающей интеллектуальную деятельность, оказывается возможным на уровне анализа литературных текстов.
Первая книга цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста начинается уже с парного упоминания фигуры этих двух концептов.
«Et, une demi-heure apres, la pensée qu’il etait temps de chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier» [21: 10].
В переводе А. Франковского эта пара синонимического ряда передана как « мысль – дума ». Тем самым, в переводе подчеркнут момент оппозиции единичности (мысль «приходит в голову») и длительности, повторяемости («думать думу»), присутствующий в паре pensée – réflexion .
«А через полчаса просыпался от мысли , что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет; во сне я продолжал думать о прочитанном, но мои думы принимали довольно странное направление» [11: 5].
Деятельный момент «мысли» в качестве «мышления», «мыслительной деятельности», подчеркивается в следующем фрагменте: «Peut-être l’immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d’autres, par l’immobilité de notre pensée en face d’elles» [21: 17]. Здесь переводчик предпочитает слово «думать», тогда, как французский текст подчеркивает активный характер мышления, введённого в заблуждение своей собственной уверенностью в неподвижности окружающих вещей: «Быть может, неподвижность окружающих нас предметов внушена им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью того, что мы о них думаем» [1 1:15].
Здесь и далее концепт pensee у Пруста часто выступает фактически синонимом концепта esprit , речь идёт о «некотором объёме психической жизни», как выражается М. Мамардашвили. В «Лекциях о Прусте», философ отмечал, что в тексте романа: «Каждый человек как бы тащит за собой некий скрытый объем психической жизни, определяющий его структуру восприятия…» [9: 238]. Социально-психологическое бытие человека, выраженное в таком феномене как мышление , подчеркивает Пруст, является конститутивным моментом для его материального бытия и не наоборот: «Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout materiellement constitué, identique pour tout le monde…; notre personnalité sociale est une creation de la pensée des autres» [21:40]. В переводе Франковского la pensée получает общефилософское толкование как «мышление»: «Наша социальная личность создается мышлением других людей».
Наконец, в другом контексте пара pensée-réfléchir заставляет переводчика вносить содержательное дополнение: réfléchir переводится как «размышлять о высоких вопросах»: «Est-ce qu’on peut voir de ses oeuvres a Paris... deviner un peu ce qu’il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tete qu’on sent toujours en train de reflechir , me dire : voila, c’est a cela qu’il est en train de penser » [21: 419]. «Я хочу отгадать… что скрывается... в этой голове, вечно размышляющей о высоких вопросах, хочу иметь возможность сказать: вот о чем он думает» [11: 459]. В этом смысле, «рефлексия» означает возвращение мысли к своим истокам, а «мышление» или «думание» подчеркивают её предметную направленность.
Русский концепт « мысль » часто служит для перевода и французского слова « idée ». Так, в переводе романа «Тошнота» Сартра «devant moi, posée avec une sorte d’indolence, il y avait une idée volumineuse et fade» [22:17] мы читаем: «передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль ». «Мыслить» и «думать» сочетаются вполне естественно:
«Autrefois, ... j’ai pense pour Annie. Maintenant, je ne pense plus pour personne... La plupart du temps, ... mes pensees restent des brouillards» [22: 19]. «В прежнее время. я долго думаю об Анни. Теперь я не думаю ни о ком .. Оттого что мысли мои не облекаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана.»
Особенность концепта мышление-думание у Сартра состоит в том, что мышление представлено не как функциональное свойство субъективного «я», а как сила вещей, внешняя самому индивиду. Как отмечает Л.Г. Андреев, в романе «Тошнота» Сартр не воплощал идеи в образы персонажей, главный герой вместе с Сартром становился феноменологом и экзистенциалистом. «Обнаружение собственного сознания не есть погружение во внутренний мир, не есть традиционное постижение субъективности… Тошнота – следствие … болезненного переживания мира внешнего как некоторой очевидности» [12: 49]. Итак, мысли или идеи у Сартра суть явления вещного мира, внешние по отношению к субъекту. А «тошнота оттого, что вещи не есть «я» [там же]. Такой взгляд на интеллектуальную деятельность является по сути парадоксальным и полемическим. Сартр полемизирует здесь с картезианской установкой, продолженной до гуссерлевской феноменологии об активной природе субъекта в мышлении.
Впрочем, там, где французский язык использует концепт «идея» (как оперативная единица мышления), в русском концепт «идея» (как и глагол «мыслить») ангажирован оценочным смыслом, а единицей мышления выступает «мысль». «Et l’IDEE est là, cette grosse masse blanche qui m’avait tant dégoûté alors... » [21: 58]. «И рядом снова оказалась МЫСЛЬ, та огромная белая масса, от которой мне сделалось так мерзко…». Но и в этом парадоксальном употреблении, на наш взгляд, присутствует концепт интеллектуала/интеллектуальной деятельности, так как Рокантен воспринимает мышление как оперирование идеями, то есть как феноменолог-практик, ангажированный интеллектуал.
Наконец, может возникнуть вопрос, как передаётся во французском языке конкретный акт мышления-дум ания , какую группу выбирает автор из форм концепта penser и концепта réfléchir . Так, в романе Э. Каррера «Лимонов», навеянном русской культурой, глагол penser употребляется в смысле «подумалось», «пришло в голову»: «une fois remis de ma stupéfaction, j’ai pensé que Sacha Ivanov, notre ami éditeur, avait pu lui annoncer mon appel... » [18: 22]. В русском переводе: «я подумал, что Саша Иванов, наш общий друг-издатель, мог предупредить его о моем звонке». «Mais ce que j’ai pensé... c’est que sa vie romanesque et dangereuse racontait quelque chose» [18: 25]. По-русски: «я подумал, что в романтичной и полной опасностей жизни моего героя зашифровано какое-то послание». Здесь глагол penser подчеркивает обстановку полной неожиданности и неясности, в которой развиваются события, непредсказуемость судьбы героя.
В нашумевшем романе «Элегантность ёжика» М. Барбери, навеянного русской и японской культурами, концепт pensée связан со значением «мудрость», наделён эпитетом «глубокая» и записывается в форме традиционного японского трехстишия «хокку» с вполне современным содержанием: «Pensée profonde N 1 Poursuivre les étoiles/Dans le bocal à poissons/Rouges finir» – «Глубокая мысль № 1/Погонишься за звездами/Кончишь жизнь в аквариуме/Золотою рыбкой». Концепт же réflexion имеет особое значение, подчеркиваямышление как внутренний диалог человека с самим собой:
«Je me fis la réflexion que c’était une femme de bien» [17: 57] («и тогда я поняла, что это была хорошая женщина»), «je m’étais fait la réflexion qu’il ressemblait de plus en plus a Neptune» [17: 72] («а про себя подумала, до чего он становится похож на Нептуна»), «C’est à ce point precis de mes réflexions indignees que quelqu’un sonne à la loge» [17: 92] («На этом месте мои гневные рассуждения прервал звонок»).
Заключение
Итак, нам представляется, что семантическое поле лингвистического выражения интеллектуальной деятельности задается во многом, парой концептов: penser–réfléchir . В отличие от русского языка, где ядерной парой концептов является пара «мыслить–думать», и существует определённое противопоставление созерцательной, непрактической деятельности, с одной стороны, производящей идеи («мыслить») и практически деятельного мышления («думать»), производящего психическое содержание («мысли») – с другой, пара penser–réfléchir целиком относится к семантическому полю интеллектуальной деятельности как деятельности интеллектуального субъекта. Различие между членами пары лежит в характере деятельности: в то время как концепт penser подчеркивает однократность, одноактность мыслительного действия, концепт réfléchir относится к представлению о длительном повторении мыслительного акта. Образ интеллектуала, ярко присутствующий во французской культуре, истории и литературе, тесно связывает пару концептов penser–réfléchir с их присутствием в жизненном, общественном и политическом пространстве действия. Это обусловливает ряд дополнительных коннотаций penser–réfléchir связанных с их отношением к личной свободе, историческому прогрессу, экзистенциальной ситуации.
LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSION OF THE SEMANTIC FIELD OF INTELLECTUAL ACTIVITY IN FRENCH
Gashkov Sergey
Список литературы Лингвистические средства выражения семантического поля интеллектуальной деятельности во французском языке
- Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. М.: «Гелеос», 2004. 416 с.
- Аристофан. Комедии./Пер. А.И. Пиотровского. В 2 т. Т. 1. М.-Л.: Academia, 1934. 585 с.
- Гак В.Г. Беседы о французском слове: Из сравнительной лексикологии французского и русского языков. М.: «Международные отношения», 1966. 335 с.
- Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. Л.: «Просвещение», 1977. 402 с.
- Дзюба Е.В., Тарасенко Е.О. Концепты интеллектуальной сферы в русском, английском и французском языках//Лингвокультурология, 2009. № 3. С. 62-67.
- Декарт Р. Meditationes de prima philosophia/Лат. текст с пер. М. Позднева, СПб: «Абрис-Книга», 1995. 192 с.
- Кронгауз М.А. Семантика: учебник. М.: Академия, 2005. 350 с.
- Кубрякова Е.С. Язык и знание. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 c.
- Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М.: Ad Marginem, 1995. 547 с.
- Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. М.: «Тетрасистемс», 2008. 272 с.
- Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. По направлению к Свану. М.: Крус, 1992. 379 с.
- Сартр, Ж.-П. Тошнота. Роман. М.: АСТ, 2014. 317 с.
- Сартр, Ж.-П. Защитительная речь в пользу интеллектуалов. Лекция. Пер. с франц. А. Зуйковой. URL: http://scepsis.net/library/id_2752.html. (дата обращения 20.09.18)
- Сидоров Е.В. Интеллектуальный ресурс лексики французского языка//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика, 2016. № 2. С. 134-139.
- Фуко М. Что такое Просвещение?/Пер. с франц. Н.Т. Пахсарьян//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. № 2. М., 1999. С. 132-149.
- Юнг И.А. Функциональные особенности фразеологических единиц, выражающих интеллектуальную деятельность во французском языке: дис.... канд. филол. наук: 10.02.05. М., 2002. 203 с.
- Barbery M.; Elegance du herisson, Paris, Gallimard, 2006, 410 p.
- Carrere E. Limonov, P.O.L., Paris, 2011. 490 p.
- Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, T.I, Paris, PUF, 1902. 1376 p.
- Ory, P., Sirinelli J.-F. Les intellectuels en France: de l’affaire Dreyfus jusqu’a nos jours, Paris, Armand Colin, 986. 264 p.
- Proust M. A la recherche du temps perdu, I. Du cote de chez Swann, Editions du Progres, Moscou, 1976. 435 p.
- Sartre J.-P., La Nausee. Gallimard, Folio, P., 1938. 245 p.
- Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine, ed. par A. Ernout et A. Meillet, Paris, C. Klincksiesk, 1959. 813 p.