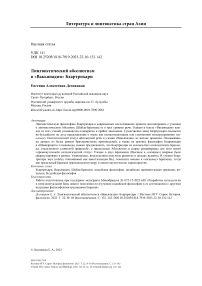Лингвистический абсолютизм в «Вакьяпадии» Бхартрихари
Автор: Десницкая Е.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литература и лингвистика стран Азии
Статья в выпуске: 10 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Лингвистическую философию Бхартрихари в современных исследованиях принято ассоциировать с учением о лингвистическом Абсолюте (Шабда-Брахмане) и о трех уровнях речи. Однако в тексте «Вакьяпадии» каждое из этих учений упоминается однократно и крайне лаконично. Существенно чаще Бхартрихари ссылается на буддийское по духу представление о языке как концептуализации или умственном конструировании (викальпа). Онтологический статус абсолютной речи в учении «Вакьяпадии» не вполне прояснен. Основываясь на данных из более ранних брахманистских произведений, а также на критике философии Бхартрихари в «Шивадришти» Сомананды, можно предположить, что Бхартрихари не склонен был отождествлять Брахмана, «наделенного словесной природой», с предельным Абсолютом и скорее резервировал для него некий «промежуточный» онтологический статус. Учение о двух Брахманах (Высшем и «низшем») впервые было сформулировано в ранних Упанишадах, впоследствии получило развитие в школах веданты. В учении Бхартрихари звук (śabda), понимаемый как квинтэссенция Вед, относится именно к «низшему» Брахману, тогда как предельный Брахман трансцендентен миру и лишен акустических характеристик.
Бхартрихари, вакьяпадия, шабда-брахман, индийская философия, индийская грамматическая традиция, викальпа, буддийская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147242417
IDR: 147242417 | УДК: 141 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-10-132-142
Текст научной статьи Лингвистический абсолютизм в «Вакьяпадии» Бхартрихари
Учение Бхартрихари, индийского философа V в. н. э., представителя грамматической традиции и автора трактата «Вакьяпадия» (ВП), в современных исследованиях принято называть лингвистическим монизмом. Онтологический компонент в учении Бхартрихари связывают с представлением о лингвистическом Абсолюте-Брахмане, который в ВП характеризуется как наделенный лингвистическим измерением или словесной сущностью (śabdatattva) (ВП I.1). Еще одним неотъемлемым компонентом учения Бхартрихари считается концепция трех уровней речи, посредством которой описывается разворачивание Брахмана в мир феноменов (ВП I.159). Данная концепция выглядит вполне последовательной, однако, как и учение о словесном Брахмане, она упоминается лишь однократно в первой книге ВП и никак не фигурирует на протяжении остальных частей трактата. Гораздо чаще, рассуждая о языке, Бхартрихари трактует его как инструмент концептуализации викальпа (vikalpa). Подобное решение, возникшее, вероятно, под влиянием буддийских доктрин, находится в очевидном противоречии с представлением об абсолютном статусе языка, описанным выше. Присутствие разнообразных и нередко взаимоисключающих воззрений в энциклопедическом по жанру трактате само по себе неудивительно, однако можно задаться вопросом о происхождении этих доктрин, а также о том, какой из них придерживался сам автор. Целью настоящей ста- тьи является пересмотр и реконструкция онтологических учений о языке и, в частности, учения о лингвистическом Абсолюте (Шабда-Брахмане) в общем контексте философии Бхартрихари. Важной задачей при этом является критический анализ интерпретаций лингвоцентристских концепций Бхартрихари, представленных в трудах позднейших кашмирских шиваитов, которые адаптировали и переосмысливали наследие Бхартрихари в рамках собственных доктрин.
Ранние представления о лингвистическом Абсолюте
«Вакьяпадия» ( Vakyapadiya ) (“[Трактат] о высказывании и слове”) начинается с утверждения о том, что основа феноменального мира и всех происходящих в нем процессов – это Брахман, не имеющий ни начала, ни конца и наделенный словесной или звуковой природой ( sabdatattva ). Представление о Брахмане как об абсолютном первоначале было известно с ранних Упанишад (середина I тысячелетия до н. э.) 1, хотя разработанное философское осмысление эта концепция получила намного позже, в трудах различных школ веданты, институционально сложившихся на рубеже I и II тысячелетий н. э. Магистральное представление о Брахмане было лишено лингвистических коннотаций, однако рассмотрение Брахмана в лингвистическом контексте не следует считать инновацией Бхартрихари. Утверждая, что Брахман наделен словесной или звуковой природой, Бхартрихари отсылал к изначальному дофилософскому пониманию ведийского слова brahman , использовавшегося в таких значениях, как ‘ведийский гимн’ или ‘ритуальная речь’ [Десницкая, 2023].
Лингвистическое измерение Брахмана зафиксировано в композите ‘Шабда-Брахман’ ( sabda-brahman ), которая впервые встречается в «Майтраяние-упанишаде» (МУ) 2 . МУ 6.22 следующим образом описывает практику созерцания звучащего Брахмана ( sabda-brahman ) в облике слога «Ом»:
Надлежит созерцать двух Брахманов: звучащего и незвучащего. При помощи звучащего проявляется незвучащий. Звучащий [Брахман] – это «Ом». Поднявшись посредством звучащего, [практикующий] обретает конец в незвучащем 3.
Далее описывается еще одна практика созерцания Шабда-Брахмана: в форме звуков, которые слышны человеку, заткнувшему уши и пребывающему в абсолютной тишине 4. Санскритское sabda означает не только ‘слово’, но и ‘звук речи’, и в данном контексте актуально именно второе значение. Раздел завершается строфой, в которой говорится, что с онтологической точки зрения, звучащий Шабда-Брахман является не предельным Абсолютом, но лишь его «промежуточной» стадией, которую надлежит преодолеть на пути к высшему Пара-Брахману:
Надлежит знать о двух Брахманах: о звучащем Брахмане (śabda-brahma) и о том, который выше. Искушенный в звучащем Брахмане достигает высшего Брахмана 5.
Шабда-Брахман также упоминается в «Бхагавадгите» (6.44 cd), и, что примечательно, в этой строфе он также фигурирует в статусе промежуточной онтологической сущности:
Желая превзойти йогу, [практикующий] выходит за пределы Шабда-Брахмана 6.
По мнению позднейших комментаторов, в этой строфе термин используется для обозначения Вед, т. е. Брахмана в его акустическом измерении. Само по себе критическое отношение к Ведам и ведийскому ритуализму вполне характерно для учения «Бхагавадгиты», укорененного в синкретической традиции санкхья-йоги. В то же время утверждение о неабсолютном статусе звучащего Брахмана согласуется с представлением о существовании двух Брахманов, к которому эксплицитно отсылает МУ 6.22 и которое можно также обнаружить как в самой МУ (МУ 6.3; 6.36), так и в других Упанишадах [van Beutenen, 1962, p. 40]. В частности, об этом говорится в «Брихадараньяка-упанишаде» (БАУ) (2.3.1):
У Брахмана же две формы: воплощенная и невоплощенная. Смертная и бессмертная. Неподвижная и движущаяся. [Первая зовется] – sat, вторая – tya 7.
Воплощенный – это тот, что отличается от ветра и пространства. Он смертный. Он неподвижный. Он [зовется] sat . Сущность ( rasa ) этого воплощенного, смертного, неподвижного, [зовущегося] sat – то, что дает жар. Именно это – суть того, [что зовется] sat .
Невоплощенный же – это ветер и пространство. Он бессмертный. Он подвижный. Он [зовется] tya . Сущность этого невоплощенного, бессмертного, движущегося, [зовущегося] tya – Пуруша в [солнечном] диске. Именно он – суть того, [что зовется] tya 8.
В отличие от МУ, противопоставление двух Брахманов в «Брихадараньяка-упанишаде» основывается на иных признаках, в число которых не входит выраженность или невыражен-ность в слове или звуке, однако типологическая близость между пассажами из обеих Упанишад вполне очевидна. «Низший» Брахман – воплощенный, связанный с посюсторонним миром, тогда как высший трансцендентен миру. Постулирование двух Брахманов, вероятно, было призвано сгладить разрыв между феноменальным и запредельным. «Низший» Брахман выступает своего рода промежуточным звеном – основанием мира феноменов, которым он, однако же, не трансцендентен, в отличие от Высшего. Очевидно, что звук ( śabda ), воспринимаемый и как квинтэссенция Вед, и как средство для сосредоточения ума, относится именно к «низшему» Брахману, тогда как предельный Брахман лишен акустических характеристик 9.
Лингвистический Абсолют в ВП
Представления о природе языка и его связи с Абсолютом в ВП достаточно разнородны. В тексте трактата можно выделить по крайней мере три учения, не в полной мере совместимые друг с другом:
-
1) Учение о звуковой / словесной природе Брахмана;
-
2) Учение о трех уровнях речи;
-
3) Учение о языке как концептуализации ( кальпана / викальпа ), которая противопоставлена Абсолюту.
Учение о звуковой природе Брахмана эксплицитно выражено в первой строфе трактата (ВП I.1) 10:
Безначальный и бесконечный Брахман, сущность которого слово, нерушимый слог Ом, разворачивается в виде феноменов / значений слов. Из него происходит мир 11.
Брахман характеризуется в этой строфе посредством композиты śabdatattva , которую можно перевести как ‘тот, чья сущность слово’ или ‘наделенный природой слова’. В свете вышеупомянутой многозначности санскритского śabda композиту можно также трактовать как ‘наделенный природой звука’. Вторая интерпретация согласуется с представлением о звучащем Шабда-Брахмане из МУ 6.22, а также с общим представлением о Брахмане как квинтэссенции Вед.
Примечательно, что ни выражение Śabda-Brahman , ни такая характеристика Брахмана, как śabdatattva , не встречаются в строфах ВП или в первичном комментарии «Вритти» 12. Далее в тексте трактата Бхартрихари неоднократно рассматривает различные лингвистические и философские категории как силы ( śakti ), посредством которых Брахман разворачивается в мир. Апелляция к многообразным шакти Брахмана позволяет выстроить динамическое описание универсума в его нисхождении от Абсолюта на уровень феноменов и примиряет взаимоисключающие или плохо совместимые концепции. Однако само по себе представление о лингвистическом / словесном / звуковом Брахмане остается непроясненным. Эксплицитно не разъясняется, в чем именно заключается «лингвистичность» его природы. Также Бхартрихари не уточняет, является звуковая / словесная форма Брахмана предельной, т. е. тождественной высшему Брахману либо же промежуточной – подобно Шабда-Брахману в МУ и «Бхагавадгите».
Вопрос об онтологическом статусе речи актуален и в связи с учением о трех уровнях речи, которое упоминается в ВП I.159 13:
[Грамматика] – это высшая чудесная обитель троичной речи, разделенной на множество путей [в виде] грубой ( vaikharī ), срединной ( madhyamā ) и зрящей ( paśyantī ) 14.
Концепцию трех уровней речи, наряду с представлением о «лингвистическом» Брахмане, принято считать центральной для философии Бхартрихари. Однако и эта концепция упоминается в ВП однократно и крайне лаконично. Более подробное разъяснение представлено в первичном (возможно, авторском) комментарии «Вритти», где утверждается, что вайкха-ри – это артикулированная речь, воплощенная в звуке; мадхьяма – внутренняя ментальная речь, в меньшей степени разделенная на отдельные лингвистические единицы; а пашьянти – чистая, непреходящая, лишенная частей и содержательных различий. Данную схему несложно осмыслить в контексте психологии речевой коммуникации: содержание, которое говорящий намеревается выразить, первоначально дано в виде единого образа ( пашьянти ), затем разворачивается во внутренней речи ( мадхьяма ) и далее артикулируется в акустической форме ( вайкхари ). При слушании чужих высказываний процесс идет в обратную сторону: от восприятия произнесенных слов через уровень внутренней речи к невербальному пониманию 15. Примечательно, что комментарий не дает однозначного ответа на вопрос, действительно ли уровни мадхьяма и вайкхари полностью лишены какой-либо развернутости во времени или в пространстве. Комментатор отмечает, что «срединная» речь, несмотря на отсутствие членения ( kramasaṃhārabhāve ‘pi ), воспринимается словно бы последовательная ( parigṛhītakramā ). Столь же противоречивая характеристика дается и в отношении пашь-янти:
Зрящая речь ( пашьянти ) – та, у которой расчлененность отсутствует, и она хотя едина, но исполнена силой разделенности 16.
Можно предположить, что мадхьяма как умственная речь, в отличие от вайкхари , не разделяется на отдельные слова и не проявляется в звуках. Однако нельзя сказать, что она мгно-венна или лишена каких-либо частей. Речь пашьянти как мгновенный акт понимания еще более свернута, однако наличие у нее содержания предполагает некоторое основание для внутреннего членения или субъект-объектного разделения, которое далее может быть реализовано на уровнях мадхьяма и вайкхари. Поэтому «зрящая» речь не в полной мере трансцен-дентна обыденной: на этом основании ее можно сопоставить с Шабда-Брахманом МУ, который тоже не может быть сведен к предельному Абсолюту, лишенному каких-либо качественных характеристик.
Классификация уровней речи, очевидно, первоначально основывалась на психологической интроспекции, однако в последующей традиции триада обыкновенно трактовалась онтологически: как описание процесса нисхождения Брахмана-Речи в мир феноменов. Подобная интерпретация, очевидно, сложилась под влиянием кашмирской школы Пратьябхиджня, в рамках которой триада была дополнена четвертым уровнем – высшей речью ( parā vāk ). Впрочем, отношение сторонников кашмирского шиваизма к философии Бхартрихари не всегда было положительным. Сомананда (875–925 н. э.), основатель школы Пратьябхиджня, посвятил отдельную главу своего программного трактата «Шивадришти» (ШД) критике учения грамматистов. В частности, он не соглашался с тезисом, что пашьянти – это высший уровень речи, тождественный Брахману. Перефразируя первую строфу ВП, Сомананда излагал учение грамматистов следующим образом (ШД 2.2):
Они [грамматисты] утверждают следующее: Высший Брахман, не имеющий начала и конца, нерушимый (= слог ОМ), имеющий облик звука ( śabdarūpa ), – это пашьянти , высшая речь 17.
По мнению Сомананды, такое отождествление безосновательно, поскольку Брахман запределен языку и субъектно-объектным различениям, тогда как само название «зрящей» речи подразумевает наличие субъекта, воспринимающего некоторое содержание. Сомананда также критиковал представление грамматистов о нереальности феноменального мира и подвергал сомнению их стремление представить грамматику в качестве философской школы. Вопрос о том, в какой мере Сомананда был знаком с трудом Бхартрихари, остается открытым. Исследователи предполагают, что реальными оппонентами Сомананды были представители некой тантрической (шактистской) школы, которые чтили богиню в облике Речи и для обоснования своих воззрений использовали какие-то из идей Бхартрихари [Nemec, 2011, p. 68]. Возможно, именно эти тантрики эксплицитно отождествляли пашьянти с Брахманом, поскольку, как мы помним, ни Бхартрихари, ни автор комментария «Вритти» подобного не утверждали. Впоследствии Утпаладева (900–950 гг. н. э.), ученик Сомананды и следующий значимый философ школы Пратьябхиджня, коренным образом переменил отношение к Бхартрихари, включив в учение своей школы схему уровней речи и дополнив ее высшей речью ( parā vāc ), полностью лишенной субъектно-объектной двойственности и тождественной Брахману. Отличие пашьянти от Пара вач состояло в том, что последняя транс-цендентна обыденному опыту, лишена какого-либо содержания и выступает скорее квинтэссенцией речи в полностью неразвернутой форме.
Можно констатировать, что кашмирские философы выявили и попытались устранить непоследовательность, изначально содержавшуюся в лингвистической онтологии Бхартрихари. Противопоставление пашьянти как высшей формы речи, доступной в опыте, запредельному Абсолюту типологически соответствует противопоставлению Шабда-Брахмана и ПараБрахмана в МУ и в «Бхагавадгите». Лаконичность упоминания уровней речи в ВП позволяет предположить, что это учение не являлось для Бхартрихари центральным или значимым. Возможно, то было периферийное учение одной из грамматических школ, о котором Бхартрихари счел необходимым упомянуть в своем энциклопедическом по жанру трактате. Популяризации этого учения, несомненно, способствовали кашмирские шиваиты, заимствовавшие его и адаптировавшие под требования собственной системы.
С другой стороны, можно отметить, что многие суждения Бхартрихари об онтологии языка отличает нарочитая декларативность. В первой книге ВП он считал своим долгом подчеркнуть особый статус грамматики и связь языка с Брахманом, понимавшимся не только в качестве Абсолюта, но и в первоначальном значении священной речи (Вед в их звучащей форме). В то же время философское обоснование подобной точки зрения оказывалось проблематичным в контексте полемики с буддистами, являвшимися одновременно и главными оппонентами, и вдохновителями для брахманистских философов середины I тысячелетия н. э. В контексте произведенного буддистами «эпистемологического поворота» язык представал продуктом (и одновременно инструментом) концептуального познания, так что попытки придать ему особый онтологический статус выглядели мало убедительно и становились мишенью для критики. Поэтому неудивительно, что, постулировав лингвистическую природу Брахмана и упомянув об уровнях речи, далее в тексте ВП Бхартрихари неоднократно обращается к иной концепции языка, обнаруживающей неоспоримое родство с буддийской философией.
Кальпана / викальпа в «Вакьяпадии»
Несмотря на декларируемую приверженность традиции Вед, учение Бхартрихари во многих аспектах обнаруживает неоспоримую близость к буддизму – например, в тенденции к имперсонализму или в отказе от использования понятия Атмана. Близость к буддийской философии (к учениям мадхьямаки и виджнянавады ) проявляется и в неоднократной апелляции к представлению о языке как инструменте концептуализации или источнике «двойственного» (субъектно-объектного) видения. В тексте трактата это представление выражается в таких терминах, как кальпана ( kalpanā ) / викальпа ( vikalpa ), которые можно перевести как «ментальное конструирование», а также в глагольных формах, производных от корня kḷp ‘делать, творить’ [Desnitskaya, 2018, p. 651].
В наиболее последовательном виде учение о языке как викальпе представлено в ВП III.3.52–88, где Бхартрихари критикует воззрение о существовании отдельных объектов, обозначаемых словами, и, соответственно, подвергает сомнению существование семантической связи. Так, в ВП III.3.54 он утверждает, что «Слово основывается на акте познания, который не отображает объект во всей полноте» 18, а речевая деятельность укоренена в неподлинных разделениях реальности. В ВП III.3.82 этот тезис раскрывается следующим образом:
Всякая обыденная речевая деятельность осуществляется посредством объектов слов, которые словно бы значимы, но на самом деле порождены концептуальным различением ( vikalpa ) 19.
Подлинное же бытие, постижение которого доступно лишь знатокам традиции трех
Вед 20, лишено разделения на субъект, объект и процесс восприятия (ВП III.3.72).
Отсылки к представлению о кальпане / викальпе встречаются и в иных частях трактата. Оба эти термина использовались в схожем значении и до Бхартрихари. Так, викальпа в «Йога-сутрах» (I.9) понималась как недостоверное знание, основанное на одних только словах и лишенное внеязыкового объекта 21. В буддийской эпистемологии чувственное восприятие (pratyakṣa) было противопоставлено языку и считалось полностью независимым от концептуализации. Язык и мышление же обобщенно обозначались как vikalpa / kalpanā. Дигнага (VI в. н. э.) в трактате «Праманасамуччая» определял кальпану как ‘соединение имени, родового понятия и проч. [с воспринимаемым объектом]’ 22. Последователь Дигнаги Дхармакирти (VII в. н. э.) утверждал в «Праманаварттике» (II.2), что достоверность словесного высказывания основывается на интенции говорящего и не зависит от реальности объекта высказывания.
Как известно, учение Бхартрихари оказало существенное влияние на буддийских мыслителей, в особенности на Дигнагу и его последователей. Степень этого влияния явствует уже из того, что Дигнага дословно заимствовал из третьей книги ВП (ВП III.3.52–88) и вставил в собственный трактат «Тайкальяпарикша» пассаж, содержащий критику языка и рассматривающий язык в неразрывной связи с процессом концептуализации ( викальпа ). Более проблематичным выглядит вопрос о том, какие буддийские авторы и произведения были знакомы Бхартрихари. Исследователи предполагают, что на него могли оказать влияние труды На-гарджуны и Васубандху [Lindtner, 1993; Houben, 1995, p. 53–58], однако проследить прямые заимствования затруднительно.
Трактовка языка как кальпаны / викальпы в ВП предстает десакрализацией и деонтологи-зацией речи. Такой подход, действительно, был характерен для буддийской философии, подвергавшей негативистской деконструкции онтологические категории соперничавших философских школ. Бхартрихари, труд которого, несомненно, появился в результате полемики между брахманистскими и буддийскими философами, мог обращаться к концепции викальпы для защиты грамматической традиции в изменившемся контексте. С другой стороны, апелляцию к учению о викальпе можно трактовать как переход от онтологизации Речи к представлению о языке как о речевой деятельности. Такой подход согласовывался с функциональным пониманием языка, характерным для индийской грамматической традиции в ее «технической» (сугубо лингвистической) части. Действительно, в рамках грамматического описания языка удобнее оперировать не онтологическими концепциями, а динамическим представлением о речевой деятельности, неразрывно связанной с познавательными процессами. И в то же время концепция викальпы в ВП не обязательно исключает представление об Абсолютной речи. В свете очевидного тяготения Бхартрихари к монизму Абсолютная форма речи могла пониматься как полностью трансцендентная обыденному сознанию и речевой практике, и это не противоречит тому, что условные формы реализации этой речи на двойственном речевом и познавательном уровне описываются в терминах концептуального конструирования ( викальпа ) .
Заключение
Можно предложить несколько объяснений разнородности представлений о природе языка в ВП. Во-первых, следует помнить об общем энциклопедическом характере трактата, который был составлен прежде всего для фиксации различных доктрин и воззрений о языке, бытовавших в брахманистском сообществе в первой половине I тысячелетия н. э. Во-вторых, неоднозначность представлений о лингвистическом Абсолюте соотносится и с неопределенным положением грамматической традиции в общефилософском контексте эпохи. Бхартрихари, с одной стороны, мыслил себя продолжателем и апологетом традиции Вед, тяготевшей к абсолютизации речи, а с другой стороны, не мог игнорировать современный ему дискурс буддистов, подвергавших онтологические концепции критике и рассматривавших язык в контексте теории познания. Именно поэтому рассуждения о языке как о ментальном конст- руировании (викальпа) представлены в ВП гораздо шире, чем онтологические концепции, которые в последующей традиции было принято связывать с философскими воззрениями самого Бхартрихари. Однако и сами по себе учения о лингвистической природе Брахмана и об уровнях речи в рамках философии Бхартрихари не лишены неоднозначности. Лаконичность строф не позволяет определить, отождествлял ли Бхартрихари лингвистическую природу Брахмана и пашьянти как высший уровень речи с предельной формой Абсолюта. Косвенные свидетельства – более ранние упоминания о Шабда-Брахмане в МУ и «Бхагавадгите», а также последующая критика учения об уровнях речи со стороны кашмирского шиваита Сомананды – позволяют осторожно предположить, что радикальное отождествление языка с Абсолютом было для Бхартрихари неприемлемо. В целом позицию автора ВП относительно онтологической природы языка можно охарактеризовать как компромисс, направленный на сохранение старых брахманистских учений, восходящих к воззрениям ведийского ритуализма, и их переосмысление в новом – преимущественно эпистемологическом – философском контексте.
Список литературы Лингвистический абсолютизм в «Вакьяпадии» Бхартрихари
- Десницкая Е. А. Истоки представления о Шабда-Брахмане // Азиатика: Труды по философии и культурам Востока. 2023. Т. 17, № 1. С. 64-79.
- Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки // Литература и культура древней и средневековой Индии. М.: Вост. лит., 1979. С. 36- 88.
- Biardeau M. Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le brahmanisme classique, Paris: Mouton, 1964. 484 p.
- Bronkhorst J. Further Remarks on Bhartṛhari’s Vedic Affiliation // Studies in Indian Culture: S. Ramachandra Rao Felicitation Volume. Bangalore: Professor S. Ramachandra Rao Felicitation Committee, 1987, pp. 216-223.
- Bronkhorst J. Bhartrhari and his Vedic tradition // Bhartrhari: Language, Thought and Reality. Delhi: Motilal Banarsidass, 2009, pp. 99-117.
- Buitenen J. A. B. van. The Maitrāyaṇīya Upaniṣad: A Critical Essay with Text, Translation and Commentary. Hague: Mouton, 1962, 157 p.
- Desnitskaya E. Paśyantī, Pratibhā, Sphoţa and Jāti: Ontology and Epistemology in the Vākyapadīya // Journal of Indian Philosophy. 2016. Vol. 44. P. 325-335.
- Desnitskaya E. Language and Extra-linguistic Reality in Bhartṛhari’s Vākyapadīya // Sophia. 2018. Vol. 57. P. 643-659.
- Franco E. On the interpretation of Pramānasamuccaya (Vrtti) I, 3d // Journal of Indian Philosophy. 1984. Vol. 12 (4). P. 389-400.
- Houben J. E. M. The Saṃbandha-samuddeśa (Chapter on Relation) and Bhartṛhari's Philosophy of Language: A Study of Bhartṛhari Saṃbandha-samuddeśa in the Context of the Vākyapadīya, with a Translation of Helārāja's Commentary Prakīrṇa-prakāśa. Groningen: Egbert Forsten, 1995. 460 p.
- Iyer K. A. S. (ed.). Vākyapadīya of Bhartṛhari with the commentary of Helārāja. Kāṇḍa III, part I. Poona: Deccan College, 1963. 388 p.
- Iyer K. A. S. (ed.). Vākyapadīya of Bhartṛhari with the commentaries Vṛtti and Paddhati, Kāṇḍa I. Poona: Deccan College, 1966. 268 p.
- Lindtner C. Linking up Bhartṛhari and the Bauddhas // Asiatische Studien / Etudes Asiatiques. 1993. Vol. 47. P. 195-213.
- Minor R. N. Bhagavad-gītā: an exegetical Commentary. New Delhi: South Asia Books, 1982. 504 p.
- Misra S. Bhartṛprapañca - A Vedāntin of Pre-Śaṅkara Era // Journal of Oriental Research (Silver Jubilee Volume). 1981. Vol. 40-41. P. 125-134.
- Nakamura H. The Concept of Brahman in Bhartṛhari’s Philosophy // Journal of Oriental Research (Silver Jubilee Volume). 1981. Vol. 40-41. P. 135-150.
- Nemec J. The Ubiquitous Śiva. Oxford: Oxford Uni. Press, 2011. 436 p.
- Olivelle P. The Early Upanishads: Annotated Text and Translation. Oxford: Oxford Uni. Press, 1998. 677 p.