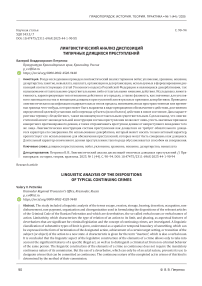Лингвистический анализ диспозиций типичных длящихся преступлений
Автор: Петренко В.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
В ходе исследования проведен лингвистический анализ терминов побег, уклонение, хранение, ношение, дезертирство, занятие, невыплата, неуплата, организация и дезорганизация, используемых в формулировании диспозиций соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации и являющихся девербативами, так называемыми отглагольными существительными либо отглагольными именами действия. Исследована лимитативность, характеризующая тип отношения действия к его пределу, а также фазовость, как значимые для уголовного законодательства и концепции длящихся преступлений аспектуальные признаки девербативов. Приведена лингвистическая классификация содержательных типов предела, понимаемым как пространственная или временная граница чего-нибудь, которая может быть выражена в виде прекращения обозначаемого действия, достижения определенной целевой установки либо перехода субъекта (или объекта) действия в новое состояние. Дана характеристика термину «бездействие», также являющемуся отглагольным существительным. Сделан вывод, что лингвистический аспект законодательной конструкции состава преступления позволяет лишь учесть значимые признаки конкретного противоправного деяния, а также отграничивать преступное деяние от непреступного поведения того же лица. Лингвистическая конструкция состава преступления как длящегося не требует обязательного длящегося характера его совершения. Но использование девербатива, который может носить только актовый характер, препятствует его использованию для обозначения преступлений, которые могут быть совершены как длящиеся. Длительный характер оконченного деяния преступлениях такого рода обусловливается способом их совершения.
Длящиеся преступления, побег, уклонение, хранение, ношение, дезертирство, невыплата
Короткий адрес: https://sciup.org/14133289
IDR: 14133289 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-90-94
Текст научной статьи Лингвистический анализ диспозиций типичных длящихся преступлений
ф
Результаты исследования являются продолжением и актуализацией сведений, изложенных в публикации «Использование лингвистического подхода к конструированию диспозиций длящихся преступлений на примере побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» [12].
Согласно определению преступления деяние должно быть запрещено уголовным законом под угрозой наказания. Язык уголовного закона — это язык государственной власти, для которого основными требованиями являются точность и лаконичность выражения [6, с. 14]. При формулировании юридической нормы необходимо обеспечить ее понимание как правоприменителями, так и обычными гражданами, на которых возлагается исполнение. Лингвистический подход к анализу юридических понятий позволяет вскрыть причины ошибочного толкования правовых норм, устранить поводы для многолетних дискуссий и споров из-за неудачной формулировки статьи закона [13, с. 101].
Материал и методы
В статье использован текст уголовного закона, материалы лингвистических исследований, специальная литература по предмету исследования. Основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы исследования, анализ теоретических и справочных источников, исторический метод.
Описание исследования
Рассмотрим лингвистический аспект законодательных понятий, используемых для описания длящихся преступлений. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях»1, в качестве примеров длящихся преступлений приведены хранение оружия, уклонение от административного надзора и невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, иных выплат. К типичным длящимся преступлениям правоприменительная практика также относит занятие высшего положения в преступной иерархии, побег, похищение человека, уклонение от уплаты алиментов, дезертирство и другие. «Занятие», «побег», «похищение», «уклонение» и многие другие юридические понятия, используемые в диспозициях статей УК РФ, являются девербативами, так называемыми отглагольными существительными либо отглагольными именами действия.
Значения действия, состояния, выражаемые этими существительными, не соответствуют общему категориальному значению предметности, но подчиняются ему, принимая морфологические формы предметного имени, становясь «опредмеченным» наименованием действия, состояния.
Недостатком является то, что отглагольные имена действия в отличие от соответствующих им по значению глаголов являются нетождественными обозначениями соответствующих явлений действительности [7, с. 126, 127].
Одной из важнейших особенностей девербативов является сведение предложения к конкретному словосочетанию или термину [4, с. 108]. Лингвисты В. Пор-циг, Е. Курилович называли эту особенность первичной функцией имен действия, используя которую в ходе частеречного перехода, сказуемое становится определяемым членом именной группы [8, с. 64, 253]. Семантическое содержание этих языковых единиц, унаследованное ими от мотивирующего глагола, и его семантико-синтаксическое функционирование в предложении позволяет девербативам быть носителями информации о сложных фактах действительности (событиях, ситуациях) [18, с. 23].
Имя действия было весьма распространенной языковой формой в древнерусском языке. В течение XIV–ХVIII веков появилось множество парных именных образований, различающихся аспектуальной семантикой, в которых можно усмотреть категорию вида. Например, девербативы «подвязание» и «подвязывание». Затем в течение последующих двух столетий количество отглагольных имен действия значительно сократилось, что обусловило утрату их парности и существенно сократило видовую дифференциацию. Поэтому семантика вида в русских отглагольных именах сильно нейтрализована, лишена регулярных формальных показателей и, как следствие, статуса грамматической категории [14, с. 7, 212]. Отдельные авторы указывают на имплицитный (скрытый) характер глагольных грамматических категорий (вид, залог, время) [5, с. 6].
Длительность, предусмотренная нормой закона, может определяться, помимо девербатива, иными элементами диспозиции статьи, которые выступают в качестве внешних (контекстуальных) средств ее выражения. Например, в формулировке части 1 ст. 337 УК РФ самовольное оставление части продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток.
Кроме длительности, явно указанной в уголовном законе, может быть внутренняя длительность, предусмотренная семантическим значением самого девербатива. Рассмотрим две разновидности такой длительности: результативная и протяженная (ограниченная и неограниченная).
Семантика результативной длительности реализуется девербативом «побег» в контексте «сбежать из места заключения».
Примером протяженной неограниченной длительности являются девербативы «хранение», «культивирование».
В ходе лингвистических исследований установлено, что значение действия как процесса наиболее ярко передается отглагольными именами с суффиксом -ние , которые по сравнению с безаффиксными образованиями ( разбой ) ближе по своей семантико-словообразовательной структуре к мотивирующим глаголам и могут более последовательно и дифференцированно передавать оттенки характера глагольного действия (длительность, кратность, завершенность, незавершенность и т. д.) [9, с. 185].
Важнейшим семантическим признаком девербати-вов является лимитативность, характеризующая тип отношения действия к пределу [16, с. 46].
Категория предельности/непредельности отражает общее представление о направленности/ненаправ-ленности действия к внутреннему пределу, соответствующее процессам внеязыковой действительности.
В русском языке под пределом понимается пространственная или временная граница чего-нибудь. Данная граница может быть выражена в семантике самым разным образом: подразумеваемое прекращение обозначаемого действия, достижение определенной целевой установки либо переход субъекта (или объекта) действия в новое состояние [2, с. 241–242].
Отглагольные имена действия без явных ограничений наследуют от глагола аспектуальный признак результативного предела действия и способны актуализировать в речи все его типы: реальный и потенциальный, эксплицитный и имплицитный. Семантический признак результативного предела действия является релевантным для именной формы выражения действия.
В лингвистике разработана классификация содержательных типов предела, реализующихся в различных способах глагольного действия:
-
— результативный (действие достигает своего естественного предела, предусмотренного его природой);
-
— количественно-временной (временная граница определенной длительности действия, временная граница начала или конца действия, крайняя граница интенсивности, продолжительности или повторяемости);
-
— одноактный (действие совершается в один прием с минимальной длительностью, например деверба-тив «взрыв» — ч. 2 ст. 167 УК РФ) [14, с. 200, 201, 207].
В статьях Особенной части уголовного закона используются имена действия с результативно-аннули-рующим значением. Например, пара имен действия «организация» (ст. 322.1 УК РФ) и «дезорганизация» (ст. 321 УК РФ).
К высокоиспользуемым в УК РФ относятся девер-бативы с результативно-обстоятельственным способом действия («перевозка»).
Содержащийся в девербативе предел может быть потенциальным, как в диспозициях статей, описывающих цель совершения преступления. Так, в статью 206 УК РФ включена лингвистическая конструкция в целях понуждения совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия.
Важной составляющей категории аспектуальности девербатива является фазовость, которая представляет собой детерминацию глагольного действия по признаку ограничения процесса временным пределом в диапазоне от момента возникновения до его завершения, или отношение непредельного процесса к его началу или завершенности, противопоставление начала действия и его исчерпанности.
Фазовость — это сложный семантический признак, тесно взаимосвязанный с категорией глагольного вида, со значением способа глагольного действия, с общим лексическим значением, которое в значительной степени сохраняется в отглагольных именах действия.
Выделяются три основных типа значений: начинательное (начало — процесс), завершительное (процесс — завершение) и целостное синхронизированное фазовое значение (интервал между началом и концом действия минимален или отсутствует).
Значительное количество длящихся преступлений совершается в форме бездействия. Термин «бездействие» также является девербативом, образованным от глагола состояния, не содержащего сем кратности и много-актности, которому свойственна непрерывная неопределенная длительность [14, с. 151].
Отдельную группу образуют отрицательные девер-бативы, которые выражают значение исключения факта осуществления действия. К данной категории относятся девербативы «невыплата», «неуплата», используемые в уголовном законе для описания типичных длящихся преступлений и выражающие преступное бездействие, отрицающее противопоставляемое действие как форму правомерного поведения. Так как лимитативность наследуется девербативами от связанных с ними глаголов, то в деяниях, выраженных отрицательными девербати-вами, смысловое содержание не сводится к семантике предела. В них отсутствует как процессность, так и ограниченность действия пределом, а имеется так называемое выражение ситуации обобщенного факта [16, с. 92].
Девербатив «уклонение» является одним из наиболее распространенных, используется для формулирования диспозиций статей 169, 177, 185.1, 185.4, 192–195, 198, 199, 199.3, 199.4, 243.3, 308, 314, 314.1, 328, 330.1, 339 УК РФ. При этом преступления, предусмотренные ст. 177, 328 УК РФ, являются типичными длящимися преступлениями. Отнесение иных перечисленных преступлений к длящимся вызывает споры. Особенно активная дискуссия развернулась в отношении налоговых преступлений.
В словарях этот девербатив определяется как действие по глаголам «уклониться» и «уклоняться» [3, с. 469, 480], в связи с чем в аспекте длительности совершения деяния он полисемичен и может использоваться для обозначения как процесса уклонения, так и достигаемого результата.
С. В. Яровая, Т. И. Нагаева обращают внимание, что термины «неисполнение обязанностей» и «уклонение от обязанностей» являются носителями различных по объему понятий. Деяния, которые ими определяются, различаются по объективным и субъективным признакам.
Термин «уклонение» определяет понятие, производное от неисполнения обязанности, но значительно более узкое по сравнению с основным, являя собой специальный вид неисполнения обязанности [10, с. 1369–1370].
Уклонение в уголовно-правовом смысле — это всегда бездействие по исполнению обязанности, запрещенное УК РФ и достигаемое определенным способом в форме деяния, в ряде составов преступлений, прямо указанном в уголовном законе. Представляется, что уголовно-правовое понимание уклонения соответствует его семантическому значению, выработанному в лингвистике. Деяния, объединенные термином «уклонение», семантически могут носить как длящийся, так и актовый характер, определяемый его уголовноправовой спецификой.
Обратившись к девербативу «побег», отметим, что он образован от начинательного глагола движения с префиксом по- . При этом фазовость, формируемая начинательным значением приставки, полностью нейтрализована [14, с. 189]. В решениях, описывая преступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ, суд обычно использует выражение «совершил побег»1 либо «сбежал из мест лишения свободы»2. В отношении периода после совершения побега чаще всего суд ограничивается указанием на дату задержания3 либо отмечает, что подсудимый в этот период «находился на свободе»4. В отдельных приговорах указывается, что подсудимый «совершил побег», с упоминанием в качестве даты совершения только момента юридического окончания деяния5.
При этом выражение «быть/состоять в бегах», согласно словарям, означает «скрываться после побега» [1, с. 22], а не во время него, и указывает на определенное состояние субъекта. В Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой приведен следующий пример употребления девербатива: «Побег состоялся. Беглец благополучно пересек границу (Б. Полевой. Встреча с легендой)». Термин «бегство», который также означает уход и может употребляться в контексте «бегство из плена» [15, с. 67], в отличие от побега, семантически не имеет предела как временной границы действия.
Поэтому девербатив «побег» понимается как выраженное действие, обращенное к его результативному пределу, с завершительной фазовостью.
В отличие от побега девербатив «перевозка», также имеющий лимитативную длительность, используется для описания преступлений, являющихся юридически оконченными на любой момент совершения процессной части действия.
Тесно связано с побегом дезертирство. Девербатив образован от двух производящих слов: «дезертир» и «дезертировать» [10, с. 280]. Дезертир — это военнослужащий-беглец [1, с. 140]. Дезертировать — значит совершить или совершать дезертирство. Глагол двувидовой, может образовывать формы совершенного и несовершенного вида [15, с. 377; 11, с. 157]. От глагола «дезертировать» может быть образован гораздо реже используемый глагол совершенного вида «сдезертировать» [17, с. 280] (дезертировать — 302 текста, 400 примеров; сдезертировать — 1 текст, 1 пример при лексическо-грамматическом поиске на сайте «Национальный корпус русского языка»6). При поиске среди решений судов общей юрисдикции на сайте «Судебные и нормативные акты РФ»: дезертировать — 89 документов, сдезерти-ровать — 07). Таким образом, этимологически и семантически термин «дезертирство» связан с двувидовым глаголом «дезертировать», в связи с чем может носить и длящийся, и актовый характер.
При этом необходимо учитывать, что длительный характер совершения длящегося преступления обусловливается способом его совершения. Законодательная конструкция состава преступления позволяет лишь учесть значимые признаки конкретного противоправного деяния, а также отграничивать преступное деяние от непреступного поведения того же лица. Лингвистическая конструкция состава преступления как длящегося не требует обязательного длящегося характера его совершения. Так, лицо, незаконно хранящее оружие или наркотики, задержанное через непродолжительное время после начала хранения, совершило актовое преступление, которое лингвистически сконструировано как длящееся с начинательной фазовостью и типично является таковым .
Заключение и вывод
Лингвистический аспект законодательной конструкции состава преступления позволяет лишь учесть значимые признаки конкретного противоправного деяния, а также отграничивать преступное деяние от непреступного поведения того же лица. Лингвистическая конструкция состава преступления как длящегося не требует обязательного длящегося характера его совершения. Но использование девербатива, который может носить только актовый характер, препятствует его использованию для обозначения преступлений, которые могут быть совершены как длящиеся.
Значение действия как процесса наиболее ярко передается отглагольными существительными с суффиксом -ние (уклонение, хранение, ношение).
Девербативы «уклонение», «хранение», «дезертирство», отрицательные девербативы (невыплата, неуплата), могут быть использованы для описания как актовых, так и длительно совершаемых сложных единичных преступлений.