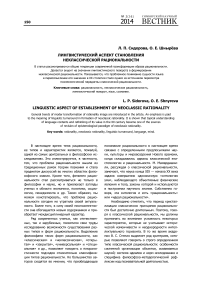Лингвистический аспект становления неклассической рациональности
Автор: Сидорова Л.П., Шнырва О.Е.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются общие тенденции современной трансформации образа рациональности. Делается акцент на значении лингвистического поворота в формировании неклассической рациональности. Показывается, что проблемное понимание сущности языка и переосмысление его значения в ХХ столетии стало одним из источников пересмотра гносеологической парадигмы классической рациональности.
Рациональность, неклассическая рациональность, лингвистический поворот, язык, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14113911
IDR: 14113911
Текст научной статьи Лингвистический аспект становления неклассической рациональности
В настоящее время тема рациональности, ее типов и характеристик является, пожалуй, одной из самых центральных в философских исследованиях. Это иллюстрируется, в частности, тем, что проблема рациональности вышла из традиционных рамок теории познания и стала предметом дискуссий во многих областях философского знания. Кроме того, феномен рациональности стал рассматриваться не только в философии и науке, но и привлекает взгляды ученых в области экономики, политики, социологии, менеджмента и др. Таким образом, мы можем констатировать, что проблема рациональности сегодня не утратила своей актуальности. Более того, в силу своей многоаспектно-сти она обогащается новым содержанием и приобретает междисциплинарный характер.
Ряд современных ученых, как отечественных, так и зарубежных, посвятили свои труды исследованию возможности существования разных типов и форм рациональности. Выделение философами таких форм рациональности, как «классическая» и «неклассическая», «открытая» и «закрытая», «универсальная» и «специальная» и др., позволяет говорить о плюрали-стичности подходов относительно классификации типов рациональности. Но большинство авторов сходятся во мнении, что преобладающее понимание рациональности в настоящее время связано с определенными предпосылками науки, культуры и мировоззрения Нового времени, когда складывались идеалы классической эпистемологии и рациональности. М. Мамардашвили, рассуждая о классической рациональности, замечает, что наука конца ХIХ — начала ХХ века задала совершенно однозначную «онтологию ума», наблюдающего объективные физические явления и тела, законы которой и используются в построении научного знания. Собственно говоря, эта онтология и есть «рациональность» или «идеал рациональности».
Необходимо отметить, что период кристаллизации классических принципов рациональности был достаточно длительным. Поэтому, говоря о классической рациональности, мы должны принимать во внимание условность некоторых характеристик, которые не учитывают исторической изменчивости и неоднородности интеллектуального горизонта. В то же время академик В. С. Степин выделяет ряд критериев, которые позволяют говорить о строго определенном типе классической рациональности: особенности системной организации объектов, осваиваемых наукой; система идеалов и норм исследования и специфика философско-методологический рефлексии над познавательной деятельностью.
Успехи в естествознании Нового времени заставляли философов придерживаться линии гносеологического оптимизма, который был в одинаковой мере присущ и представителям эмпиризма, и представителям рационализма. Идеалы классической рациональности были необходимы для сохранения научного энтузиазма, который не встречал на своем пути помех в виде субъективности или индетерминизма. Однако новые открытия в естественных науках, эволюция философских идей и социальные преобразования в ХIХ—XX вв. сделали невозможным прежнее понимание рациональности. В последующей философской традиции постулируется отказ от идеала объективного знания, а в естествознании этот идеал наполняется принципиально новым пониманием. Ф. И. Гиренок пишет об этом так: «…естествознание вырабатывает иной принцип объективности, особенность которого можно выразить следующим образом: мир полностью определен, если его полнота сложилась с человеком, но независимо от мышления...» [1]. Отталкиваясь от критериев классической рациональности, приведенных выше, отметим, что для неклассического типа рациональности становятся характерными новый взгляд на субъект-объектные отношения, внимание к социокультурным аспектам познавательной деятельности, а также смена методологических приоритетов.
Сегодня некоторые отечественные ученые считают, что старые категории классической рациональности, такие как субъект, объект, истина, реальность, объективность, причинность и пр. потеряли свой смысл. Но в таком случае и сама классическая рациональность утрачивает свое содержательное наполнение. В то время как формирование неклассического типа рациональности не означает полного отказа от принципов ее классического типа; однако сфера применения последних становится ограниченной, они больше не воспринимаются в качестве универсальных. Поэтому необходимо признать, что в сегодняшней действительности мы сталкиваемся с научной рациональностью как классического, так и неклассического образца.
Изменение стиля научного исследования, усложнение эпистемологической картины, неопределенный статус современной науки, включение в рамки естествознания общемировоззренческих вопросов приводит к необходимости всестороннего теоретического осмысления предпосылок формирования неклассического типа рациональности. В данной статье мы предпринимаем попытку отойти от традиционного гносеологического и методологического осмысления неклассической рациональности и исследовать лингвистический аспект ее формирования, что позволит дополнить существующие представления о неклассической рациональности и проследить ее глубокие теоретические истоки.
В настоящее время ряд ученых связывают неклассичность рациональности не только с ее междисциплинарностью, изменением теоретикопознавательной ситуации и другими сюжетами современной науки и философии, касающихся в основном трансформаций в гносеологии и эпистемологии, но и призывают учитывать в качестве одного из важнейших источников смены типов рациональности так называемый «лингвистический поворот» в философии.
Лингвистический поворот, случившийся в XX столетии, нашел свое выражение не только в философии (аналитическая философия, логический позитивизм, постмодернизм), языкознании, психологии и гуманитарном знании в целом, но и имплицитно повлиял на математику, а также естественные науки. Потому как если не входить в лингвистические подробности, поворот этот означает прежде всего смещение онтологических ракурсов в отношении языка и реальности, а значит, и трансформацию познавательной парадигмы и культуры в целом. Классическое понимание сущности языка сводилось к признанию главенствующего положения разума и его автономности по отношению к языку. Такого рода точка зрения подразумевает, что разум полностью определяет содержание языка, конституирует его, а язык, в свою очередь, является лишь выражением знания нашего интеллекта о мире. Причем знание это может быть вложено Богом или некой высшей силой, может содержаться в неком идеальном «мире эйдо-сов», как у Платона, или даже определяться некими трансцендентальными условиями, как, например, в случае с Кантом. Однако связь между языком, нашим разумом и объективным миром в рационалистической традиции вполне определенна, и она носит сугубо функциональный характер; язык выступает лишь средством выражения имеющегося у нас знания. А это влечет за собой отрицание того, что «…специальное исследование языка может иметь какую-либо познавательную ценность, ибо язык является всего лишь средством для осуществления некоей более фундаментальной познавательной или практической цели. Свойства истинности и необходимости приложимы только к чистой мысли, а языку отводится роль случайной воспринимающей среды. Богатство средств выражения в национальных языках, а также различия их исторических судеб остаются без внимания» [2].
В то же время в XVIII—XIX вв. появляется новая тенденция в понимании языка, связанная с усиленными исследованиями в области языкознания, а также истории. Речь идет прежде всего о деятельности таких мыслителей, как Гердер, Гумбольдт и Шлейермахер. Однако следует иметь в виду, что их исследования в области языка хоть и задали мощный импульс для изучения конкретных языков различных народов, их специфики и историко-культурной обусловленности, тем не менее не имели серьезной он-тофилософской подоплеки. На наш взгляд, одним из первых, кто сделал акцент именно на метафизике языка, стал немецкий философ Фр. Ницше. Несмотря на то что сам мыслитель и его многочисленные последователи и критики не выделяют лингвистическую проблематику в качестве существенной и ключевой в ницшеанской философии, его понимание языка, с нашей точки зрения, обладает той глубокой степенью укорененности в вопросы онтологического порядка, которая позволяет назвать Ницше предтечей случившегося в XX веке лингвистического поворота. Один из выдающихся французских философов прошедшего столетия М. Фуко отмечал исключительное значение текстов Ницше, посвященных языковой проблематике: «Непосредственно и самостоятельно язык вернулся в поле мысли лишь в конце XIX в. Можно было бы даже сказать, что в XX в., если бы не было Ницше-филолога… который первым подошел к философской задаче глубинного размышления о языке» [2]. Понимание языка у Ницше выходит за пределы лингвистики и устремляется в область метафизики, грамматика для мыслителя является олицетворением глубинного упорядочивающего принципа, который создает основные ориентиры мышления и мировосприятия. Поэтому критика языка в текстах Ницше является выражением неудовлетворенности рациональным дискурсом в целом. Сложившаяся познавательная ситуация, по мнению немецкого мыслителя, является слишком рационально ориентированной. «Аполлонический» вектор развития, берущий свое начало в античности и достигший своего апогея в немецкой классической философии, привел к кризису европейской культуры в целом, как полагает Ницше. Концепция «истинного мира», вне зависимости от того, понимается ли она предельно идеалистически или трансцендентально-реалистически, кажется немецкому мыслителю не просто несостоятельной, но и пагубной, приведшей европейскую культуру к состоянию «нигилизма» («Бог мертв» означает, что сверхчувственный мир лишился своей силы). Стремление к истине кажется Ницше проявлением «дурного вкуса», так как философ осознает скрытую власть языка над мыслью, который независимо от сознания субъекта содержит в себе некие кристаллизации, объективированные представления или допущения того, каков мир, которые в действительности свойственны только самому языку, но представляются человеку свойствами мира. «Мы верим в разум: но он есть не что иное, как философия серых понятий… так как мы мыслим только в форме языка, мы верим в «вечную истину» нашего «разума» (например, в субъект, предикат и т. д.). Мы перестаем мыслить, как только отказываемся подчиняться принуждению языка, и при этом все еще сомневаемся, считать ли это ограниченностью. Разумное мышление есть интерпретирование по схеме, от которой мы не может освободиться» [3].
Представления об идентичности структуры языка и мира и идеал полного дескриптивного описания, по мнению Ницше, приводят к неизбежному измышлению фикций, которые мы принимаем за истину и объявляем в качестве неприкосновенных основ, на которых зиждется наш разум. М. К. Мамардашвили в своих лекциях по современной европейской философии замечает, что язык наш построен таким образом, что он сам нас подталкивает к утверждению, что в потустороннем мире что-то есть, нечто идеальное, но в то же время реально существующее. Именно поэтому, согласно Мамардашвили, Ницше настаивает на том, что пока мы верим в грамматику, мы от Бога не избавимся: «Есть просто перенос некоторых черт нашего языка на сам мир, или, говоря на современном, тоже не очень точном языке, есть образец отчуждения сознания (то есть перенос некоторых связок, свойственных только устройству нашего языка и сознания, на мир и овеществление их в мире). В этом смысле для него такое отношение к миру, на которое перенесен грамматический костяк нашего языка, то есть некоторые грамматические посылки, допущения, условности, есть богоподобное отношение… Под верой в грамматику в данном случае имеется в виду не соблюдение грамматических правил в языке, а перенесение грамматических черт языка на действительность» [4]. Учитывая подобное отношение Ницше к языку, становится ясно, что яркий, художественный и метафоричный стиль немецкого философа является не случайным, а вполне философски оправданным. Именно бла- годаря этому стилю определенные аспекты лингвистической проблематики, которые нашли свое выражение в творчестве немецкого гения, звучат с особой, уникальной, неповторимой интонацией.
В сущности, все гуманитарное и философское знание прошедшего столетия в той или иной степени было сконцентрировано на лингвистической проблеме. Зачастую поиск методов, направленных на достижение в языке дескриптивной адекватности реальности, заканчивался столкновением с основательной, аргументированной критикой. Язык из инструмента, подчиняющегося разуму, превратился в смыслообразующую форму, которая требует постоянной рефлексии над собой, в противном случае, не ощущая сопротивления языка, мы можем попасть в сети ложных идей и понятий, навязанных историчностью нашего существования. Понимание проблемной сущности языка является одной из определяющих черт неклассической рациональности. Если раньше исследование языка было уделом узкой прослойки профессионалов, которые были ориентированы на внутренние дисциплинарные проблемы, то в XX веке лингвистическая тематика приобретает универсальное значение для всего научного знания. Об этом свидетельствует не только большое количество философских течений и идей, так или иначе связанных с языком, но и естественно-научный опыт. Примером тому может служить возникновение внутри квантовой физики вопроса об описательных средствах. Безусловно, Н. Бор и его соратники не занимались лингвистической проблематикой углубленно. Однако познавательная ситуация, в которой объекты микромира должны быть выражены на языке классической физики, осознавалась ими в качестве проблемной. И хотя в статье «Дискуссии с Эйнштейном по проблемам теории познания» Н. Бор написал: «Как бы далеко не выходили явления за рамки классического физического объяснения, все опытные данные должны описываться при помощи классических понятий» [5], к такому пониманию роли классических понятий в квантовой теории ученый пришел не сразу. На протяжении определенного периода времени Н. Бор надеялся на замену классических понятий «квантовыми». Любопытно, что аналогичная эволюция взглядов обнаруживается и у других физиков. В конечном счете, идея замены классических понятий некими новыми, «квантовыми» оказалась несостоятельной ввиду того, что наталкивалась на непреодолимое обстоятельство: вводимые новые термины необходимо требуют разъяснения, которое может быть дано только на обычном естественном языке повседневной жизни. Имея дело с объектами, принципиально невыразимыми на обыденном языке и языке классической физики, Н. Бор все-таки отказывается от поиска иного, «квантового» языка. И не только потому, что полный дескриптивный идеал, с точки зрения ученого, все равно является недостижимым, но и потому, что традиционный философский подход, согласно которому реальность является чем-то первичным, фундаментальным, лежащим в основании языка, кажется Бору непродуктивным. Ученый заявляет: «Мы так подвешены в языке, что не можем сказать, где верх, а где низ. Слово «реальность» является также только словом, которое мы должны научиться употреблять правильно» [6].
Этот на первый взгляд узкоспециальный пример проблемы языка описания в квантовой физике, в действительности демонстрирует определяющую для всего ХХ века тенденцию в понимании языка. Тенденция эта выражается в понимании автономности языка, признании того, что он обладает некими самопродуктивными чертами и механизмами, которые действуют помимо намерений и задач нашего интеллекта. Если прибегать к биологическим аналогиям, то язык становится живым организмом, развитие которого детерминировано не только внешними объективными факторами, которые мы навязываем ему, но и некоторыми скрытыми от нас механизмами. И интеллектуальная мысль ХХ столетия работает с этой идеей в двух направлениях. Первое направление — это психоанализ, структурализм, экзистенциализм, постмодернизм, которые, при всех своих особенностях и различиях, рассматривают новое содержательное наполнение языка как некий продуктивный момент. Скажем, через языковые структуры можно увидеть действие бессознательного в нас, более того, согласно Лакану, например, само бессознательное структурировано как язык. И в целом намечается целый комплекс идей, которые работают на то, чтобы выявлять в сказанном или написанном нечто иное, чем то, что сказано или написано. С одной стороны, это структурный анализ, который занимается тем, что пытается вычленить некие устойчивые структуры в языке, указывающие не только на предмет или процесс во внешнем мире, но и на некоторые неочевидные возможности их реализации. М. К. Мамардашвили приводит в пример фразу Ж. П. Сартра о том, что не стоит писать книгу, если хоть один ребенок умирает во Вьет- наме. Фраза эта с точки зрения философа «есть инверсия противоположного скрытого убеждения, веры в то, что книги пишутся для того, чтобы устраивать мир. Здесь имплицирована идея, что высказывание Сартра есть одна из возможностей структуры. Если есть инверсия, то это означает, что есть поле возможностей; есть структура и есть разные возможности; во фразе Сартра реализована одна из них… И это выявление других [в данном случае нереализовав-шихся] возможностей есть структурный анализ…» [4].
С другой стороны, это постмодернизм, для которого с известной долей обобщения ключевым является вопрос интерпретации текста в контексте диалога. И отсюда проистекают все идеи. Вспомним теперь уже хорошо известную характеристику литературного произведения, которую дает ярчайший русский философ ХХ века М. М. Бахтин в своей работе «Вопросы литературы и эстетики»: «…перед нами два события — событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как произведение в его событийной полноте, включая сюда и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца, и слушателя-читателя. При этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» [7]. Несмотря на то что Бахтин собственно постмодернистом не является, исходный содержательный пункт данного течения ему удалось сформулировать достаточно точно.
Второй вектор развития идей, связанных с новым пониманием языка, можно обозначить как позитивистский. Признание того, что язык обладает некой самостоятельной жизнью, независимыми от интеллекта механизмами, привело неопозитивистов к отличным от структуралистов или постмодернистов выводам. Неопозитивисты двигались по пути очищения языка от смысловых образований, не имеющих смысла и не поддающихся верификации. Успехи математической логики начала ХХ века подвигли философов к идее создания универсального, «чистого» языка, в котором все автономные, самопро-дуктивные черты и механизмы будут блокированы. Такой идеальный язык должен выражать только то содержание, которое полностью контролируется нашим мышлением. Однако надо сказать, что на этом пути неопозитивисты окончательного успеха не достигли, так как неоднократно сталкивались с конструктивной критикой, которая заставляла логических позитивистов корректировать свои теории либо полностью отказываться от них. Показательным в этом отношении является пример Л. Витгенштейна, который отказался от выдвигаемой им в «Логико-философском трактате» идеи существования некоего «чистого», совершенного языка, свободного от теоретической нагруженности и многозначности. В стремлении к идеальному языку «мы оказываемся на скользкой поверхности льда, где нет никакого трения и условия в известном смысле идеальны, но именно потому мы не можем двигаться. Мы хотим ходить: тогда нам необходимо трение. Назад на грубую почву!» [8].
Таким образом, лингвистический поворот в философии в значительной мере повлиял на изменение гносеологических установок, мировоззрения и культуры ХХ столетия. Лингвистическая тематика стала приобретать универсальное значение для всего научного знания. Неудовлетворенность философов и ученых рациональным дискурсом, переосмысление самой сущности языка имели большое значение для смены познавательной парадигмы ХХ века. В частности, наряду с гносеологическими и методологическими аспектами, лингвистический аспект сыграл непосредственную роль в трансформации основных ориентиров мышления и мировосприятия, изменения субъект-объектных отношений, переоценки главенствующей роли разума и его автономности. Поэтому именно лингвистический аспект, который практически не исследован в качестве источника, повлиявшего на формирование неклассической рациональности, может быть представлен как новый вектор в осмыслении проблемы рациональности в целом.
-
1. Гиренок Ф. И. Ускользающее бытие. М. : ИФРАН, 1994. 221 с.
-
2. Лаврова А. А. О пользе и вреде «веры в грамматику» (Философия языка Ф. Ницше)» // Историкофилософский ежегодник. 1995. М. : Мартис, 1996. 396 с.
-
3. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М. : Культурная революция, 2005. 880 с.
-
4. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. СПб. : Азбука, 2014. 608 с.
-
5. Бор Н. Избранные научные труды : в 2 т. М. : Наука, 1966. Т. 2. 662 с.
-
6. Petersen A. The Philosophy of Niels Bohr // Niels Bohr. A centenary volume. Ed. By A. P. French and P. J. Kennedy, Cambridge University Press, 1985.
-
7. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М. : Художественная лит., 1975. 504 с.
-
8. Мотрошилова Н. В. История философии: Запад — Россия — Восток (книга третья: Философия XIX— XX вв.). 2-е изд. М. : «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1999. 448 с.
Список литературы Лингвистический аспект становления неклассической рациональности
- Гиренок Ф. И. Ускользающее бытие. М.: ИФРАН, 1994. 221 с.
- Лаврова А. А. О пользе и вреде «веры в грамматику» (Философия языка Ф. Ницше)»//Историкофилософский ежегодник. 1995. М.: Мартис, 1996. 396 с.
- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная революция, 2005. 880 с.
- Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. СПб.: Азбука, 2014. 608 с.
- Бор Н. Избранные научные труды: в 2 т. М.: Наука, 1966. Т. 2. 662 с.
- Petersen A. The Philosophy of Niels Bohr//Niels Bohr. A centenary volume. Ed. By A. P. French and P. J. Kennedy, Cambridge University Press, 1985.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная лит., 1975. 504 с.
- Мотрошилова Н. В. История философии: Запад -Россия -Восток (книга третья: Философия XIX-XX вв.). 2-е изд. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1999. 448 с.