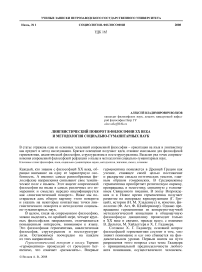Лингвистический поворот в философии XX века и методология социально-гуманитарных наук
Автор: Волков Алексей Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология. Философия
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье отражена одна из основных тенденций современной философии - ориентация на язык и лингвистику как предмет и метод исследования. Краткое освещение получают идеи, ставшие сквозными для философской герменевтики, аналитической философии, структурализма и постструктурализма. Выделен ряд точек соприкосновения современной философской рефлексии о языке и методологии социально-гуманитарных наук.
Философия, язык, социально-гуманитарные науки, методология, значение, смысл, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14749394
IDR: 14749394 | УДК: 165
Текст научной статьи Лингвистический поворот в философии XX века и методология социально-гуманитарных наук
Каждый, кто знаком с философией XX века, обращал внимание на одну ее характерную особенность. А именно: самые разнообразные философские направления связывают свое тематическое поле с языком. Этот акцент современной философии на языке в самых различных его измерениях и смыслах нередко квалифицируется как «лингвистический поворот». Ниже мы постараемся дать общую картину этого поворота и указать на некоторые контактные точки лингвистического поворота и методологии социально-гуманитарных наук.
В целом, глядя на современную философию, можно выделить, по крайней мере, четыре крупных философских направления, отличающихся повышенным интересом, вниманием к языку. Это философская герменевтика, аналитическая философия, структурализм и постструктурализм. Остановимся поочередно на каждом из этих направлений.
Герменевтический поворот к языку. Термин «герменевтика» происходит от греческого her-meneuo, что означает «разъяснять». Впервые герменевтика появляется в Древней Греции как учение, ставящее своей целью постижение и раскрытие смысла поэтических текстов, главным образом гомеровских. В Средневековье герменевтика приобретает религиозную окраску, превращаясь в экзегетику, связанную с толкованием Священного писания. В эпоху Возрождения и в Новое время герменевтика получает развитие на материале юриспруденции (Г. Гро-ций), истории (И. М. Хладениус) и, конечно, филологии (Ф. Аст, Ф. Шлейермахер). Однако превращение герменевтики из конкретно-научной методологической концепции в общенаучную философскую дисциплину происходит только в XX веке и связано, прежде всего, с именами В. Дильтея, М. Хайдеггера и Х. Г. Гадамера.
Согласно Х. Г. Гадамеру, основной вопрос философской герменевтики состоит в том, что значит понимание и как оно сбывается на фундаментальном уровне. Первым шагом на пути разрешения этого вопроса стал тезис Гадамера о принципиальной предпосылочности любого акта понимания, осуществляемого человеком.
Чтобы пояснить свою мысль, Гадамер обращается к привычному для человека способу обращения с текстом.
Обычно человеку представляется, что то, что он понял, содержится «тут же», в самом тексте. Однако Гадамер напоминает, что человеческое сознание – это не tabula rasa и рассматриваемый предмет человек невольно видит в терминах уже имеющегося у него знания, поэтому не существует ничего просто «вот тут». С точки зрения философа, все, что высказывается о тексте, уже так или иначе определено некими антиципациями, т. е. предвосхищениями [1].
Принимая данный факт во внимание, Гада-мер указывает на две важные вещи:
во-первых, основу любого акта понимания составляет так называемый «предрассудок». Под предрассудком понимается не ложная предвзятость, а та культурно-историческая традиция, в которой живет и мыслит человек и которая определяет характер его осмысления действительности задолго до того, как сам человек начинает это замечать и обдумывать;
во-вторых, сама эта культурно-историческая традиция седементируется и транслируется в языке, языком же заданы как возможности, так и границы мышления, и именно язык как структурный элемент культурного целого должен стать первейшим предметом герменевтической рефлексии, опыта [2].
Уже на примере этих положений Гадамера можно понять, сколь важна герменевтика для методологии социально-гуманитарных наук. Прежде всего, герменевтика учит гуманитария, обществоведа воспринимать язык не просто как инструмент для выражения мыслей, а как миро-видение, в котором находит отражение жизнь человека, народа, специфика их культуры, социальной организации и т. д.
Приведем небольшой пример. В русском языке есть слово «князь». Было бы ошибочно понимать его просто как обозначение главы го -сударства, определенного принципа организации власти. Как сообщают историки, в русском крестьянском быту «князем» и «княгинюшкой» называли основателей рода, например жениха и невесту во время свадьбы [3]. В этой связи слово «князь», при герменевтическом к нему отношении, обращает внимание на специфический характер самой русской государственности, возникающей в результате экстраполяции ценностей локального мира (семьи, общины) на большую сферу социальной реальности.
Далее, обратим внимание на еще один момент. Как известно, механизмы владения родным языком носят, как правило, бессознательный характер. Конечно, когда-то в процессе воспитания в семье, в школе они осваивались сознательно, изучались фонетика, лексика, грамматика. Однако впоследствии пользование родным языком происходит автоматически. Между тем человека, занимающегося наукой, подобное спонтанное, автоматическое функционирование языка и тех предрассудков, что в нем содержатся, может столкнуть с определенными трудностями.
В свое время американский философ, логик У. Куайн предложил на этот счет занятную иллюстрацию. Некий туземец и лингвист-европеец, изучающий его язык, гуляя по лесу, видят, как мимо них пробегает заяц. При этом туземец издает звукосочетание «гавагай». Разумеется, лингвист предполагает, что на его родном языке «гавагай» обозначает зайца. Между тем, переводя «гавагай» как заяц, лингвист опирается на аналогию с европейским языком и полагает, что как в европейском языке слова именуют отдельные целостные объекты, так же это происходит и в языке туземца. Однако если отказаться от европейского стандарта и допустить, что язык туземца иначе расчленяет, классифицирует мир, то можно предположить, что слово «гавагай» относится не к зайцу как целостному объекту, а, например, к его частям, проекциям, которые в зависимости от случая попадают в поле зрения [4].
Этот пример Куайна как нельзя лучше демонстрирует герменевтическую подоплеку проблемы понимания, столь важную для социально-гуманитарных наук. Речь идет о том, что нередко человек, исследователь видит, слышит то, что он настроен увидеть и услышать, видит то, что ему подсказывает видеть уже имеющееся у него знание. В этой связи герменевтика ставит перед исследователем задачу осознания собственной предпосылочности, освоения собственных предмнений, например, европейского языкового стандарта, который неявно настраивает лингвиста переводить «гавагай» как «заяц».
Нечувствительность гуманитария к своей «языковой предпосылочности» чревата тем, что процесс понимания сведется к тому, что исследователь будет выводить из предмета познания то, что он сам туда же и поместил. И здесь мы подходим к еще одной важной вещи. Вынуждая исследователя осознавать свою языковую предпо-сылочность, герменевтика, по сути, способствует уяснению специфики гуманитарного познания.
Как известно, в естествознании для того, чтобы познать предмет, необходимо воздействовать на него, вырвать из многочисленных «естественных» связей с другими предметами и поставить в изолированное состояние. Только так может быть понята подлинная природа предмета. В естествознании такое воздействие называется экспериментом. Вооруженный экспериментами человеческий разум подходит к природе не как ученик, который слушает все, что учитель считает нужным сказать, но как полномочный судья, который принуждает свидетелей отвечать на вопросы, сформулированные им самим (И. Кант).
С точки зрения Гадамера, нет ничего более далекого от специфики гуманитарных наук, чем естественнонаучная модель познания. Познание в гуманитарных науках – это не подобие юриди- ческого процесса, в котором разум добивается от вещей ответов на свои собственные вопросы, а скорее разговор, беседа, в которой столь важно искусство внимать голосу и мысли Другого. И герменевтика прививает этот необходимый для гуманитария навык познания как коммуникативного, диалогического процесса.
Аналитический поворот к языку. Первоначально этот поворот осуществлялся в рамках логического анализа языка, однако для социальногуманитарных наук аналитический поворот к языку значимым стал тогда, когда философия перешла от логического к прагматическому анализу языка. Этот прагматический поворот в анализе связан с работами «позднего» Л. Витгенштейна, Н. Гудмена, У Куайна, У Селларса. Остановимся подробнее на концепции Л. Витгенштейна.
Центральными идеями в философии позднего Витгенштейна являются концепция «языковых игр» и теория «семейного сходства». Отправным пунктом Л. Витгенштейна выступает мысль о том, что естественный язык - это живые мыслительно-речевые акты, вплетенные в сложную ткань многообразных форм человеческой жизнедеятельности. При этом Витгенштейн подчеркивает тот факт, что значения языковых выражений зависят от их применения в тех или иных формах социальной, культурной деятельности. Порой одно и то же языковое выражение, употребляющееся в разных формах социокультурной деятельности, приобретает разные значения. Например, вопрос об элементарных составляющих некоего предмета будет по-разному восприниматься и решаться, скажем, ученым-физиком и специалистом по мебели, для которого важно квалифицированно собрать и разобрать этот предмет.
В итоге Витгенштейн приходит к выводу о том, что значение языкового выражения - это совокупность его употреблений в различных формах человеческой жизнедеятельности, а сам язык - это не что иное, как форма жизни. Отсюда же берет начало и аналогия между языком и игрой: подобно тому, как в игре существуют правила, регулирующие деятельность ее участников, так же и в языке словоупотребление ориентировано на нормы и образцы той формы жизнедеятельности, частью которой этот язык является [5].
С точки зрения Витгенштейна, существует далеко не одна языковая игра. Коль скоро та совокупность социальной деятельности, в которую вплетен язык, предельно разветвлена, то и количество языковых игр огромно. При этом, поскольку значение языкового выражения задается внутри языковой игры, т. е. внутри той формы социальной, культурной деятельности, в которой оно употребляется, то и понимать друг друга будут, прежде всего, те люди, которые принадлежат одной и той же языковой игре, одной и той же форме социальной, культурной деятельности.
Перейдем теперь к значению концепции «языковых игр» для социально-гуманитарных наук.
Как явствует из самого названия, социальногуманитарные науки - это науки об обществе и человеке. Человек же, как мы знаем, это носитель языка, а сам язык всегда вплетен в ту или иную форму жизнедеятельности. В этой связи представитель социально-гуманитарных наук неизбежно сталкивается с феноменом «языковых игр», и построить науку относительно общества, человека, игнорируя описание и понимание этих «языковых игр», вряд ли возможно. При этом теория «языковых игр» в лице Л. Витгенштейна, П. Уинча, К. О. Апеля и др. специально подчеркивает, что адекватно понять эти «языковые игры» можно только из перспективы самих участников этих игр. Проиллюстрируем это на примере.
В российской истории XIX века было одно эпохальное событие - реформа отмены крепостного права. Одним из широко обсуждаемых в ходе подготовки реформы был вопрос о распределении земли между дворянами и крестьянами-отпущенниками. Реформаторы сосредоточили свои усилия на таком распределении земли, которое, по их мнению, обеспечило бы эффективную поддержку государства всеми сословиями. Что касается крестьян, то их стремление к земле носило несколько иной характер. Земля для крестьянина была испокон веков синонимом Правды, т. е. жизни без дворян и чиновников, но с царем-батюшкой. В этом смысле, когда крестьянин говорил о «земле», то эта была не совсем та земля, о которой спорили реформаторы.
Игнорирование в данном случае того обстоятельства, что одно и то же слово («земля») в зависимости от «формы жизни», в которой оно употребляется, может приобретать разное значение, существенно затрудняет понимание исследователем специфики социально-экономической реформы. В тени разговора о размерах выкупных платежей остается ценностно-смысловая, мировоззренческая подоплека конфликта.
Далее, концепция «языковых игр» тесно связана с еще одной важной идеей - теорией «семейного сходства». Теорию или принцип семейного сходства Витгенштейн противопоставил традиционной теории абстракции. Согласно теории абстракции значением слова является то общее свойство или абстрактная сущность, которой обладают все предметы, обозначаемые данным словом, и только они. Витгенштейн старается предостеречь от неверного толкования, будто теория абстракции способна объяснить все возможные способы функционирования общих понятий. Он приводит простой пример. Понятие «игры» охватывает ряд явлений, таких как: шахматы, футбол, карты, детская игра в мячик, куклы и т. д. Примечательно при этом то, что все эти явления сходны друг с другом в одном отношении, но не сходны в другом, а указать на наличие у них одного общего свойства затруднительно. Теория «семейного сходства» как раз и выдвигается Витгенштейном для классификации таких явлений, которые имеют сходство наподобие сходства членов человеческой семьи: у некоторых – похожие носы, у других – брови, у иных – походка и т. д. И эти сходства лишь частично совпадают, перекрещиваются. Но не существует какого-либо свойства или группы свойств, общих всем членам в равной мере [6].
Теория «семейного сходства» привлекла внимание многих философов, ученых, методологов науки. Особенно полезной она оказалась для описательных наук, например для истории, этнографии, биологии. В связи с этим Р. Нидэм даже назвал введение понятие «семейного сходства» Витгенштейном «концептуальной революцией», которая наступила после тысячелетней гегемонии схоластической формальной логики, и это нововведение, как можно ожидать, будет иметь важные последствия для широкого круга эмпирических дисциплин.
Собственный опыт этнографа убеждает Ни-дэма в том, что при попытках классифицировать общества по какому-то единому и определенному признаку (например, на основе форм либо власти, либо родства, либо наследования) исследователь сталкивается в конце концов с тем обстоятельством, что не существует какой-либо единой эмпирической черты, присущей всем тем общественным структурам, которые он склонен отнести к одному разряду классификации. Как видно, ситуация здесь аналогична той, которую Витгенштейн разбирает при анализе значения слова «игра».
Так как формы общественного устройства не поддаются объединению в классы в соответствии с традиционным представлением о классификации, то Нидэм предлагает понимать задачу классификации в духе витгенштейновской идеи «семейного сходства». Для конкретной реализации такого замысла он использует понятия о мо-нотетической и политетической классификациях. Класс в монотетической классификации соответствует традиционному требованию наличия общего признака у всех его элементов. В политетических же классификациях класс должен удовлетворять гораздо более слабому требованию. Такой класс характеризуется набором элементов, которые сходны между собой в одном отношении и не сходны в другом, т. е. нет такого свойства, которое было бы присуще всем элементам данного класса.
Политетические классификации удобны тем, что обнаружение новых объектов или видов объектов с новым распределением признаков уже не заставляет ломать всю классификацию, как это было в период господства монотетиче-ского идеала классификации. Кроме того, поли-тетические классы не являются взаимоисключающими. Они делают явным признание промежуточных случаев, они высокоинформативны, и с ними связано меньше риска произвольно исключить какие-то важные черты [7].
Структуралистский поворот к языку. В качестве философского учения структурализм оформился во Франции в 60–70 годы XX века. К числу наиболее ярких представителей данного направления принадлежат: этнолог К. Леви-Строс, историк культуры, философ М. Фуко, психоаналитик Ж. Лакан и литературавед Р. Барт. Несмотря на разную профессиональную направленность этих мыслителей, их объединяет общая интенция структурного метода – выявить в объекте познания структуры, т. е. совокупности отношений между элементами целого, сохраняющих свою устойчивость при различного рода преобразованиях и изменениях. При этом для структурализма характерно использование лингвистических методов в других областях гуманитарного знания или понимание социальных, культурных объектов по аналогии с языком, как знаковой, означающей системы.
Безусловно, что ведущую роль, как в плане логического формирования, так и в плане исторического становления методологической программы структурализма, сыграл крупнейший современный этнолог К. Леви-Строс.
Научная деятельность К. Леви-Строса посвящена исследованию социальных организаций и духовных структур традиционных обществ. Речь идет о различного рода племенах Южной, Северной, Центральной Америки, Океании, Африки. К началу XX века сложилось представление о том, что людям этих традиционных сообществ присуще, «дологическое» или «пре-логическое» мышление (Л. Леви-Брюль), не способное к усмотрению противоречивости явлений и процессов и управляемое сугубо фантазиями и мистическими переживаниями.
К. Леви-Строс с этой точкой зрения не согласен. По его мнению, человек традиционного общества, так называемый туземец, способен к совершению тех логических операций, которые осуществляет и человек технически продвинутой цивилизации. Поэтому одна из главных задач, которую ставит себе Леви-Строс, состоит в том, чтобы продемонстрировать логическую рациональность мышления туземцев, выявить те структуры мышления, которые являются общими как для туземца, так и для обычного европейца. В решении поставленной задачи Леви-Строс опирается на методы структурной лингвистики (Н. Трубецкого, Р. Якобсона), а конкретной точкой приложения этих методов выступают мифы, тотемические комплексы традиционных обществ.
Как известно, один из основателей функциональной лингвистики Н. Трубецкой исходил из отчетливого противопоставления фонетики как науки о материальной стороне (звуках) человеческой речи фонологии как науке, которая исследует, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов и по каким правилам они сочетаются друг с другом в слова (и соответственно в предложения). При этом, по замечанию Трубецкого, вся- кое различие предполагает противоположение. Речь идет о том, что признак звука способен приобрести смыслоразличительную функцию, если он противопоставляется другому признаку, если он является членом звуковой оппозиции (звукового противопоставления). Звуковые оппозиции (противопоставления), способные дифференцировать значения двух слов данного языка, называются фонологическими или смыслоразличительными. Например, том : ком; лом : сом и т. д. [8].
Опираясь на фонологическую теорию Н. С. Трубецкого, К. Леви-Строс полагает, что аналогичным образом можно действовать и при анализе мифов. Подобно тому, как значащая функция в языке связана не с самими звуками, а со способом их сочетания между собой, так и смысл мифа заключен не в отдельных его элементах, а в связи этих элементов между собой.
Примером исследования мифа с помощью лингвистической методологии может послужить левистросовский анализ мифа об Эдипе. Опуская пересказ сюжета данного мифа, заметим, что как структуралиста К. Леви-Строса интересует миф не столько с точки зрения повествования как линейного развертывания во времени некой последовательности событий (синтагматика), сколько с точки зрения модально-логических отношений, по которым строится сама эта последовательность (парадигматика).
Так вот, по мнению Леви-Строса, все события в мифе приобретают свой смысл, будучи сгруппированы в так называемые бинарные оппозиции. Первой такой оппозицией может послужить гипертрофия и, наоборот, обесценивание родственных связей (имеются в виду инцест Эдипа с матерью и убийство отца), а второй оппозицией - подчеркивание и, наоборот, отрицание кровной связи с землей (речь идет о власти сфинкса, который и является символом автохтонного, т. е. растительного происхождения человека, и победа Эдипа над ним).
В целом, миф об Эдипе, по мнению Леви-Строса, представляет собой некий логический инструментарий для решения одной из центральных для традиционного общества проблем. А именно: человек рождается от одного существа, некоего природного прародителя (как утверждает космология, религия), или от двух - мужчины и женщины (как об этом говорит опыт)? В мифе об Эдипе эта проблема решается путем медиации или посредничества. Так, первичная бинарная оппозиция - человек рождается от одного существа или от двух? - заменяется другой, более узкой, бинарной оппозицией - подобное рождается подобным или чем-то другим? После этой замены исходные противопоставленности хотя и не ликвидируются, но смягчаются, т. е. сводятся к приемлемой для сознания ситуации. Так, с одной стороны, прав опыт, которой говорит о том, что люди рождаются от людей, но, с другой стороны, права и космология, ибо социальные нормы запрещают рождение людей от близких родственников [9].
Далее, использование К. Леви-Стросом методов структурной лингвистики позволяет ему выйти на еще одно примечательное обстоятельство. Как утверждают лингвисты, в схеме по опознанию фонем, помимо крайних членов, есть звуки-медиаторы, но и в мифах, говорит Леви-Строс, которые также обычно оперируют оппозициями, появляются медиаторы. Например, в оппозиции «травоядные - плотоядные» медиатор - «питающееся падалью животное», например, шакал или ворон. Эта структура подразумевает следующее рассуждение: с одной стороны, пожиратели падали подобны плотоядным (питаются животной пищей), а с другой стороны, подобны и травоядным (они не убивают то, что едят). Таким образом, для мифа, который оперирует противопоставлениями и стремится к их по степенному снятию, медиатор может выступать семантической серединой между полярностями или совмещать в себе два качества, каждое из которых соотнесено с одним из двух противопоставляемых предметов.
Еще одно явление, на примере которого К. Леви-Строс демонстрирует бинарные оппозиции как структурообразующий логический элемент традиционного мышления, - тотемизм.
Один из известных теоретиков тотемизма У Г. Р. Риверс определил это явление следующим образом: некая общность людей заявляет о своей связи с неким животным, каким-нибудь видом растения и даже с неодушевленным предметом. Психологически эта взаимосвязь выражается в том, что общность людей верит в родство между членами своей группы и животным (растением, предметом), часто выражается и в убеждении, что данная человеческая группа преемственно происходит от этого тотема. Наконец, данному животному, растению и т. д. оказывается почитание, проявляющееся, например, в запрете на его потребление или использование только при определенных оговорках [10].
Один из важных вопросов, волновавших теоретиков тотемизма, был вопро с о том, почему именно животное и растительное царства представляют привилегированную номенклатуру для обозначения социальных общностей. Популярным и распространенным ответом на этот вопрос был следующий: в тотемизме задействованы животные или растения прежде всего потому, что они обеспечивают человеку пищу, потому что потребность в пище занимает первое место в сознании первобытного, традиционного человека, вызывая сильные разнообразные эмоции (Б. Малиновский, А. Р. Рэдклиф-Браун).
К. Леви-Строс, однако, считает эту точку зрения ошибочной. По его мнению, природные виды отбираются не из-за того, что они «хороши, чтобы кушать», а потому что «хороши, чтобы думать». За многообразием явлений, со- ставляющих тотемический комплекс, К. Леви-Строс увидел осуществляемые мышлением логические операции. Например, при отождествлении членами социальной группы себя с животным или растительным видом выполняются операции сходства-различия. При регуляции переходов по линии индивид – социальная группа (половозрастная группа, клан, линидж) – племя используются обобщение-конкретизация, анализ-синтез. Если же племя использует для по-именования кланов части тела природного существа, то при такой мысленной детотализа-ции в означаемом происходит движение от общего к частному, а если имеет место и ретотали-зация – движение от частного к общему [11].
Подобные мыслительные операции могут совершаться и с помощью «морфологических классификаторов» (К. Леви-Строс) – лап зверя, его хвоста, зубов и др., по которым соотносимы между собой индивиды различных кланов, занимающие аналогичную социальную позицию. Совокупность таких операций, с учетом всех тотемов, посредством которых мыслят в данном племени, исследователь называет «тотемическим оператором». Это модель, воссоздающая реальную логическую форму, используемую туземцами для фиксации социально значимого содержания, его абстрагирования и конкретизации.
В целом, предпринятый Леви-Стросом анализ операционного состава традиционного мышления позволяет ему сделать вывод о родстве неких фундаментальных логических структур так называемого первобытного и современного человека. Данный вывод важен прежде всего тем, что ведет к отрицанию этноцентризма – установки, для которой характерно отождествление себя с людьми, а прочих – с «варварами» и «дикарями», и европоцентризма – мировоззрения, основывающегося на односторонне толкуемой идее прогресса или исторической эволюции.
И наконец скажем несколько слов о так называемом постструктуралистском повороте к языку и его последствиях для социальногуманитарных наук. Сам термин «постструктурализм» говорит о том, что представители этого направления (Ж. Деррида, Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Делез и т. д.) как развивают некоторые имманентно присущие структурализму (и в частности, структурной лингвистике) черты, так и выходят за его пределы.
Как известно, одним из краеугольных камней структурной лингвистики является восходящая еще к Ф. де Соссюру идея о произвольности языкового знака. В частности, Соссюр рассматривал знак как единство означающего (акустический образ слова) и означаемого (понятие). При этом в самом понятии нет ничего такого, что принуждало бы выражать его каким-то одним, определенным звуковым сочетанием. Скажем, понятие «стол» не связано никаким внутренним отношением с последовательностью звуков с-т-о-л, служащей в русском языке ее оз- начающим; оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков, например t-a-b-l-e. В этой связи Соссюр и обращал внимание на то, что означающее произвольно по отношению к означаемому и никакой естественной связи у него с ним нет [12].
Что же касается постструктуралистов, то они, отталкиваясь от тезиса о произвольности знака, стремятся придать ему более радикальное значение. Так, например, Ж. Деррида – один из признанных корифеев постструктурализма – замечает, что если никакой естественной связи между означающим и означаемым нет, но при этом они выступают как бы двумя сторонами одного листа, то не только означаемое не отсылает к какому-то определенному означающему, но и само означающее не указывает на какое-то одно, определенное означаемое. Или, говоря иначе, подобно тому, как одна и та же мысль может быть выражена не одним, а многими звуковыми сочетаниями, так одно и то же звуковое сочетание может отсылать (и на самом деле отсылает, считают постструктуралисты) не к одному, а к множеству смыслов.
Постструктуралистская трактовка знака получает выражение в специальном термине, неографизме – «diffèrance» («различАние»), введенном Ж. Деррида. Дифферанс – это такой механизм означивания, при котором каждое понятие никогда не присутствует само по себе; каждое понятие вписано в цепь или систему, в рамках которой оно отсылает к другим понятиям через систематическую игру различий. Можно сказать, что дифферанс выражает в процессе означивания два момента: момент процес-суальности (размножения смысла) и момент временной отсрочки, как бы откладывания конечного, абсолютного смысла [13].
Постструктуралистский поворот к языку повлек за собой ряд последствий для социальногуманитарных наук и прежде всего для литера-тураведения. В традиционном объекте литерату-раведческого анализа, коим всегда выступало произведение, обнаружился еще один объект, названный Р. Бартом «текстом», а его ученицей Ю. Кристевой «интертекстом». Что это такое? Если произведение представляет собой замкнутый вещественный фрагмент, сводимый к определенному смыслу, то текст или интертекст – это совокупность всевозможных цитаций, отсылок, аллюзий данного произведения на многие другие произведения. При этом, поскольку количество этих явных и не явных отсылок в принципе бесконечно, то и смысл читаемого, анализируемого произведения постоянно размножается, ускользает, откладывает свое окончательное воплощение в будущее [14].
Подобное изменение в объекте исследования (т. е. сам сдвиг от произведения к тексту или интертексту) не могло не отразиться и на самом субъекте, исследователе. Постструктуралистский поворот к языку знаменовал собой введе- ние новых практик чтения, анализа художественного произведения, таких как «деконструкция» (Ж. Деррида), «текстовой анализ» (Р. Барт), «шизоанализ» (Ж. Делез и Ф. Гваттари). Общим для всех этих практик является выявление внутренней противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых не только от неискушенного, «наивного» читателя, но и от самого автора «остаточных смыслов», доставшихся в наследие от речевых, иначе – дискурсивных, практик прошлого, закрепленных в языке в форме неосознаваемых мыслительных стереотипов.
В качестве иллюстрации можно привести работы американского филолога Х. Блума. Этот исследователь работает, главным образом, на материале англоязычной поэзии. Специфика его методологии анализа литературного текста состоит в том, что он рассматривает любое стихотворение как авторский «акт чтения» стихотворений предшественников. При этом одним из главных условий утверждения своего поэтического «Я» становится маскировка отношений с предшественником, вытеснение источника. В своих работах Блум рассматривает механизмы такого защитного вытеснения источника, процедуры его осуществления. По его мнению, следы вытеснения и ревизии откладываются в поэтических фигурах-тропах, становящихся своего рода знаками протекания творческого процесса [15.].
Далее, традиционное литератураведение, искусствознание всегда стремилось приписывать все интенции только автору текста или тексту как имманентному образованию. Однако если всякий текст есть, по выражению Р. Барта, «между-текст», то само понятие автора становится проблематичным. Автор считается отцом и хозяином своего произведения. Что же касается текста, то в нем, говорит Р. Барт, нет записи об Отцовстве. Текст можно читать, не принимая в расчет волю его отца. Призрак Автора может «явиться» в Тексте, в своем тексте, но уже только на правах гостя [16]. Данная ситуация получила в постструктурализме название «смерть автора».
Для лучшего понимания постструктурализма сошлемся на весьма характерную для него идею примата языка над мышлением и тему активной, конструирующей функции языка по отношению к миру. Суть идеи состоит в том, что язык, который использует человек в своей повседневной и в том числе научной деятельности, вовсе не является просто нейтральным средством выражения мысли, напротив, он активен, и то, что рассказывается, напрямую зависит от того, как рассказывается.
Наглядной иллюстрацией к этой идее может послужить работа американского философа, историка Х. Уайта. В 1973 году он издал книгу «Метаистория», с которой и принято связывать лингвистический поворот в исторической науке. Скажем несколько слов об этой работе.
Как известно, историк занят изучением прошлого. Может показаться, что задача исто- рика состоит в том, чтобы просто описать события в той хронологической последовательности, в которой они в действительности происходили. Однако, описывая все, истории не получишь, получишь – хронику. История, по мнению Х. Уайта, начинается с того, что из всей массы событий историк производит отбор: одни события он выдвигает на передний план, считая их главными, другие отодвигает на периферию, как менее значимые, а третьи могут вообще оказаться незамеченными, недостойными внимания. Сами же основания, по которым историк упорядочивает события в единую линию, заданы языком. В частности, Уайт обращает внимание на то, что по скольку история разворачивается в форме повествования, т. е. рассказа, то и основаниями для упорядочения событий в историю выступают специальные модели, называемые сюжетными модусами повествования.
Из литературоведения известно о существовании четырех модусов сюжетного повествования – роман, комедия, трагедия и сатира. В зависимости от того, какой из сюжетных модусов повествования выбирает историк, в такую картину и выстроятся эмпирические данные, такой смыл и получит сама история. В итоге, то, с чем имеет дело историк, всегда некая конструкция, или, как говорят постструктуралисты, «нарратив», т. е. рассказ о прошлом, а не само прошлое. Помня о том, что любой нарратив репрезентирует исторические феномены в каком-то одном аспекте, историк должен стремиться выйти за пределы своего нарратива и практиковать разные нарративы [17]. Здесь, следует заметить, мы выходим на одну из главных идей постструктурализма – принцип плюральности интерпретаций и развитие науки на альтернативнодополнительной основе.
Предшественник постструктурализма, структурализм исходил из идеи о том, что воспринять, понять нечто можно лишь в том случае, если это нечто представляет собой структурированное, упорядоченное целое. Сама же структурность связывалась с тем, что какой-то из элементов этого «нечто» является главным, центральным, а остальные периферийные. Для постструктуралистов самым главным в данной ситуации как раз и стал вопрос об этом «центре» структуры. Является ли некий элемент целого (например, литературного произведения) центральным сам по себе или он оказывается центральным потому, что некто (например, исследователь) центрирует на нем свое внимание?
Представители постструктурализма склоняются ко второму решению. Так называемый «центр» – это не объективное свойство структуры, а то, что субъект, исследователь принял в качестве такового, и в зависимости от характера и направленности взгляда исследователя свойство «центральности» может смещаться, переходить с одного элемента на другой. В этой связи Ж. Деррида и вводит в философский оборот такой термин, как «восполнение» [18]. Под «восполнением» подразумевается тот факт, что множество нетождественных друг другу смыслов, интерпретаций должны находиться не в отношении господства и подчинения, а скорее равноправия и взаимодополнительности.
Таковы некоторые точки соприкосновения современной философии и методологии соци- ально-гуманитарных наук в «поле языка». Все они, на наш взгляд, заслуживают серьезного внимания. Слова А. Эйнштейна о том, что наука без теории познания становится примитивной и путаной, можно вполне отнести и к сфере социально-гуманитарных наук. Знание философских идей, умение ими пользоваться является важной составляющей методологической культуры любого исследователя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Гадамер Х . Г . Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 18–19.
-
2. Гадамер Х . Г . Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 317.
-
3. Кавелин К . Д . Наш умственный строй. М.: Правда, 1989. С. 15.
-
4. Куайн У . Слово и объект. М.: Наука, 2000. 470 с.
-
5. Витгенштейн Л . Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 83.
-
6. Витгенштейн Л . Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 110.
-
7. Сокулер З . А . Проблема обоснования знания. М.: Наука, 1988. С. 78.
-
8. Трубецкой Н . С . Основы фонологии. М.: Изд. иностр. лит, 1960. С. 17.
-
9. Леви- Строс К . Структурная антропология. М.: Наука, 1985. С. 193.
-
10. Леви- Строс К . Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 43.
-
11. Леви- Строс К . Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 230.
-
12. Соссюр Ф . де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 100.
-
13. Деррида Ж . О грамматологии. М.: Ad marginem, 2000. С. 194.
-
14. Барт Р . Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 413.
-
15. Блум Х . Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 351с.
-
16. Барт Р . Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 419–420.
-
17. Уайт Х . Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 22–62.
-
18. Деррида Ж . О грамматологии. М.: Ad marginem, 2000. С. 291.
Список литературы Лингвистический поворот в философии XX века и методология социально-гуманитарных наук
- Гадамер Х. Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 18-19.
- Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 317.
- Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М.: Правда, 1989. С. 15.
- Куайн У. Слово и объект. М.: Наука, 2000. 470 с.
- Витгенштейн Л.Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 83.
- Витгенштейн Л.Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 110.
- Сокулер З. А. Проблема обоснования знания. М.: Наука, 1988. С. 78.
- Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Изд. иностр. лит, 1960. С. 17.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985. С. 193.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 43.
- Леви -Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. С. 230.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 100.
- Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad marginem, 2000. С. 194.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 413.
- Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 351с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 419-420.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 22-62.
- Деррида Ж.О грамматологии. М.: Ad marginem, 2000. С. 291.