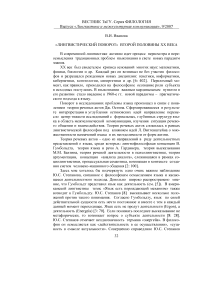«Лингвистический поворот» второй половины ХХ века
Автор: Иванова Валентина Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120479
IDR: 146120479
Текст статьи «Лингвистический поворот» второй половины ХХ века
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
В современной лингвистике активно идет процесс пересмотра и переосмысления традиционных проблем языкознания в свете новых парадигм знания.
ХХ век был свидетелем кризиса оснований многих наук: математики, физики, биологии и др. Каждый раз он возникал не без участия философов и разрешался рождением новых дисциплин: генетики, информатики, кибернетики, когитологии, синергетики и др. [6: 402]. Переломный момент, как правило, приходился на философское осознание роли субъекта в исходных постулатах. В языкознании важным кардинальным пунктом в его развитии стало введение в 1960-е гг. новой парадигмы – прагматического подхода к языку.
Поворот в исследованиях проблемы языка произошел в связи с появлением теории речевых актов Дж. Остина. Сформировавшееся в результате интерпретации и углубления остиновских идей направление перенесло центр тяжести исследований с формальных, глубинных структур языка в область межчеловеческой коммуникации, изучения ситуации речевого общении и взаимодействия. Теория речевых актов сложилась в рамках лингвистической философии под влиянием идей Л. Витгенштейна о множественности назначений языка и их неотделимости от форм жизни.
Теория речевых актов – одно из направлений в ряду деятельностных представлений о языке, среди которых: лингвофилософская концепция В. Гумбольдта, теория языка и речи А. Гардинера, теория высказывания М.М. Бахтина, теория речевой деятельности в психолингвистике, теория аргументации, концепция «анализа диалога», сложившаяся в рамках социолингвистики, процессуальная семантика, возникшая в контексте создания систем человеко-машинного общения [2: 100].
Здесь мне хотелось бы подчеркнуть одно очень важное наблюдение Ю.С. Степанова, связанное с философским осмыслением языка и касающееся деятельностного подхода. Довольно широко распространено мнение, что Гумбольдт представил язык как деятельность (см. [5]). В американской лингвистике тезис «Язык есть порождающий механизм» также возводят к Гумбольдту. Ю.С. Степанов [8] высказывает несколько положений против такого понимания. Согласно Гумбольдту, язык по своей действительной сущности есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент переходящее. Язык есть не продут деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia) [3: 70]. Если понимать последнее высказывание не метафорически, то возникает вопрос о субъекте деятельности [8: 28]. Ю.С. Степанов отмечает неоднозначность термина «энергейа». В философии он осмысляется как «действительность в ее осуществлении», «сущность в смысле актуальности». Совершенно справедливо Ю.С. Степанов
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ замечает, что если вложить в термин «энергейа» указанный выше смысл, то толкование гумбольдтовского подхода не заканчивается, а скорее только начинается [Op. cit.: 29].
Высказанные Ю.С. Степановым замечания относительно эргон / энер-гейа позволяют рассматривать ЯЗЫК (язык – язык-речь – речь) не как противопоставление языка-системы и речевой деятельности, т.е. как разнопорядковые сущности: «система» и «деятельность», а свести их к интерпретации: «сущность в возможности» – «сущность в действительности». Современная лингвистика стремится постичь язык как «сущность в действительности», «действительность в ее осуществлении», «сущность в смысле актуальности».
Попытки толкования соотношения языка/речи как двойственного феномена предпринимались ранее. Так, О. Есперсен [4] указывал на особый вид двойственности, в которой различаются актуализация и потенция. Но, как отмечают многие исследователи, язык и речь находятся в гораздо более сложных отношениях, нежели отношения скрытой потенции и ее односторонней реализации. Уже Соссюр указывал, что речь является источником и одновременно результатом языка: все, что находится в языке, первоначально прошло через речь, но и речь не могла бы существовать без языка. А. Соломоник [7: 330] отмечает, что «пользуясь языком как источником, речь по-своему распоряжается взятым из него капиталом. Она постоянно приспосабливает его к новым условиям и обстоятельствам, зачастую изменяя его и возвращая в новом виде в общую копилку. Таким образом актуализация одновременно превращается в потенцию и наоборот. По-настоящему серьезно эти взаимные связи начали осознаваться лишь в середине ХХ века, когда идея Соссюра о необходимости разных подходов к изучению языка и речи была реализована на практике».
Главная особенность теории речевых актов – подход к речевому акту как способу достижения человеком определенной цели и рассмотрение под этим углом зрения используемых языковых средств. Эта теория способствовала исследованию механизма использования языка для достижения многообразных целей, возникающих в ходе социального взаимодействия людей. Теория речевых актов продемонстрировала важность учета подлежащего распознаванию намерения говорящего для объяснения процессов речевого взаимодействия. Ею была выявлена, с одной стороны, взаимосвязь намерения с другими экстралингвистическими факторами в форме соответствия между иллокутивной целью и обстоятельствами речевого акта – психологическим состоянием говорящего, его интересами, социальным статусом, представлениями о ситуации общения, в частности о слушающем с его знаниями, интересами, социальным статусом.
Позитивные результаты теории речевых актов не могут рассматриваться как окончательные решения соответствующих проблем [2: 101].
Прагматический подход повлек за собой пересмотр устройства языка. Прагматика интерпретирует речь относительно ситуации ее порождения и свидетельствует, что не только в физическом мире все относительно, но и в лингвистическом тоже [6: 403]. В обоих случаях относительность порождается введением фигуры субъекта. Выступая в речи в качестве говорящего, наблюдателя, носителя языка, ментальных состояний, поведения и культуры, он оказывается созидателем языка, его центром, точкой отсчета, главным фактором, определяющим все его свойства [Ibid.]. Другими словами, антропоцентричность (субъектность) языка – это присутствие в его системе, структуре, функционировании и эволюции носителя языка как субъекта речи, восприятия, познания, мышления, сознания, поведения, деятельности и культуры [Op. cit.: 10]. Субъектность – это главное эпистемологическое свойство человеческого языка.
Неоспорим тот факт, что основные открытия в науке совершаются на стыке разных дисциплин. При междисциплинарности подхода становится возможным увидеть новые объекты анализа, новые аспекты существования и функционирования изучаемых сущностей, а главное – новые возможности объяснения фиксируемых наблюдений и фактов [2: 90]. Междисциплинарный подход позволяет по-новому оценить роль языка во всей речемыслительной деятельности человека, дискурсивной деятельности разных типов и особенно привлечь внимание к языку как обеспечивающему доступ ко многим непосредственно ненаблюдаемым процессам ментального, мыслительного, познавательного характера, т.е. к процессам и концептуализации и естественной категоризации мира [Ibid.].
В конце ХХ века языковедческие исследования начали испытывать мощное влияние когнитивных наук с их многообразными подходами. В когнитивные исследования вовлечены не только лингвисты, но и представители других гуманитарных наук и смежных дисциплин, таких как психология, антропология, кибернетика и многие другие. Подобная полифония наук сулит значительные открытия в будущем [1: 9]. Роль лингвистов в ней очерчена со всей четкостью, и у них не может возникать никаких сомнений по поводу того, каким образом им следует исполнять свою партию. Основной вклад лингвистов, по мнению К. Ажежа, связан с упорным обследованием структуры и конкретной материи человеческих языков, с исследованием социального аспекта языковой деятельности. На долю лингвистов выпадает выяснение конститутивной роли социальности в генезисе и структуре языков. Они призваны помочь установить связь между лежащими в основе языковой способности ментальными процессами и тем способом, каким эта способность используется членами языкового коллектива в конкретных коммуникативных ситуациях [Ibid.]. Лингвисты могут воспользоваться этим многоголосием, чтобы по-иному взглянуть на те или иные проблемы своей науки.
Одно из ведущих направлений когнитивной науки – исследование знаний, используемых в ходе языкового общения. Основная задача когнитивных исследований – объяснение механизма обработки естественного языка, построение модели его понимания. Центральные проблемы когни- тивного подхода к языку связаны со структурами представления различных типов знания, способами концептуальной организации знаний в процессах построения и понимания языковых сообщений.
В результате новых подходов стали очевидны проблемы в разграничении языка и речи, функций языка, семантики и прагматики, диалога и монолога, грамматики языка и грамматики речи и т.п. По мере того как интересы лингвистов все больше концентрировались на изучении роли человека в языке, возникла необходимость создания нового метаязыка, позволяющего включить в рассмотрение новые объекты [2: 88].
Необходимость различения языка и речи, полезного с методологической точки зрения, была четко сформулирована Ф. де Соссюром. Хотя Соссюра больше всего заботила проблема отграничения одного лингвистического феномена от другого и необходимость разных подходов к их изучению, он отмечал также равноправие и взаимозависимость обоих явлений, не отдавая предпочтения ни одному из них. Анализом каждого из феноменов занималась вся последующая лингвистика вплоть до нашего времени (см. об этом [7: 329]).
Методологически целесообразно не смешивать язык и речь, однако первый можно выделить только на фоне второй, так как именно речь лежит в основе языка. Речь и язык не образуют двух автономных сфер [1: 216]. В большинстве современных теорий речевой деятельности за разнообразной терминологией и оговорками просматривается недооценка их единства [Ibid.].
В рамках структурной парадигмы преимущественное внимание уделялось изучению системы языка. Мало внимания уделялось предложению, которое рассматривалось как единица речи. Синтаксис был восстановлен в своих правах во второй половине ХХ в. в генеративной грамматике. Однако сторонники генеративной грамматики, проявив слишком большое внимание к синтаксису, забыли, что он не существует сам по себе и что языки предназначены для передачи смысла [1: 215].
Как отмечает К. Ажеж [Op. cit.: 216], парадокс Хомского лишь кажется отрицанием парадокса Соссюра, на самом деле он повторяет его в иной форме. Цена, заплаченная за конструирование гомогенного объекта науки, оказалась слишком высокой: после устранения индивидуальных вариантов остается один лишь код, общий всем членам одной и той же языковой общности. Однако вариативность – это и есть сама реальность, и всякие попытки редуцировать или игнорировать ее приводят к построению лингвистики, лишенной социального содержания [Ibid.].
Несмотря на упреки в адрес этих лингвистических гениев, лингвистика не может не признать их заслуг. На определенном этапе методологическое редуцирование при конструировании предмета является целесообразным.
За генеративной грамматикой, иногда в качестве реакции на нее, последовала прагматика, шире – лингвистика высказывания. В рамках новой парадигмы уделяется внимание говорящему субъекту, всему тому, что игнорировалось при построении моделей языка как системы. Как это часто происходит в истории науки, «маятник качнулся в другую сторону, причем реакция оказалась чрезмерной» [Op. cit.: 217].
Успехи, достигнутые при исследовании речевых актов, нередко приводили к забвению того факта, что речь не мыслима вне языковой системы, которая именно в речи находит свое применение. Тексты – это конечные результаты, и их нельзя отделить от того, результатом чего они являются, – от кода. И наоборот, код находит свое проявление в оперативной деятельности человека диалогического. Именно в ней код конституируется как таковой в ходе истории, и причина его периодических изменений кроется в самом его использовании [1: 217].
Единство области, определяемой противопоставлением язык/речь, проявляется во всем. Например, в лексике большинство полнозначных слов, употребляясь в речи, могут приобретать новые значимости, связанные с данным контекстом употребления. Эволюция словаря определяется тем, что к денотативному значению, т.е. к первичному смыслу (ср. «структурная стабильность»), приводимому в словаре, добавляется коннотативное значение, т.е. некоторый смысл, связанный с конкретной ситуацией (ср. «гибкая приспосабливаемость»). Когда какая-либо ситуация становится достаточно частой, язык вбирает в себя новые означаемые.
Признание единства языка/речи позволяет истолковать пограничное между синтаксисом и семантикой явление, которое служило предметом теоретических разногласий, – явление эллипсиса. Его можно рассматривать как незаполнение некой позиции в речевой цепи, обусловленное конститутивными свойствами кода, а не фантазией или стилистическим выбором говорящего, и в то же время сам говорящий прибегает к эллипсису в процессе диалогического общения. Следовательно, эллипсис – часть кода и в то же время используется по усмотрению говорящего субъекта [1].
О единстве фактов языка и речи свидетельствует и такое явление, как интонация. За всеми многочисленными интонационными регистрами непросто усмотреть некий код. Смыслы интонационных контуров зависят от ситуации, за исключением совершенно конкретных случаев (вопрос, актуальное членение и др.). Не всегда говорящие одинаково истолковывают смысл интонационных контуров. Однако, такое важное для функционирования языка явление, как интонация, может все же интегрироваться в языковую систему.
Исходной базой толкования дискурса должны являться языковые факты, тот смысл, который вписан в материю дискурса. «Мы вступаем на весьма нетвердую почву, как только начинаем постулировать существование понятийных категорий, не заботясь о том, чтобы обнаружить в материальности речевой ткани хоть какие-то следы, способные послужить их ориентирами и гарантами» [1: 221]. К. Ажеж справедливо замечает, что можно познать лишь конечное, и нельзя допустить, чтобы территория лингвистики была затоплена океаном домыслов, не опирающихся на фор- мы. Единственный мостик между семантикой и прагматикой в ее широком понимании, которой стоит заняться и лингвистам, это сам говорящий субъект, производящий и толкующий смыслы в конкретном социальном окружении, образующем его естественную среду. В этой среде его и следует рассматривать [Ibid.].
Говорящий субъект должен постоянно находиться в центре внимания лингвистов, но именно как субъект высказывания, точнее, психосоциальный субъект высказывания [1: 225], а не как некая абстрактная субъективность. Важно отметить, что понятие психосоциального субъекта высказывания не должно привести к растворению лингвистики в психологии и социологии. Надо иметь также в виду тот факт, что хотя лингвисты должны прислушиваться к мнению психологов и социологов, они не могут бездумно расширять поле своих исследований.
Психосоциальный субъект высказывания объединяет в себе все типы использования языка в зависимости от ситуации. Введение понятия психосоциального субъекта высказывания позволило К. Ажежу построить социо-оперативную модель лингвистики как отражение диалектики ограничения и свободы [Op. cit.: 228]. Если выйти за пределы наиболее структурированных частей языка, то возможности для инициативы психосоциального субъекта окажутся очень широкими.