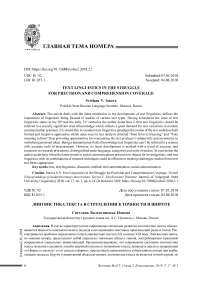Лингвистика текста в стремлении к точности и широте
Автор: Ионова Светлана Валентиновна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Лингвистика текста: современные подходы
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье характеризуются современные тенденции развития лингвистики текста, обосновывается важность лингвистического подхода к исследованию текстовых произведений разных типов. Рассматривается проблема определения статуса лингвистики текста в ХХ и начале ХХI века. Лингвистика текста, по мнению автора, представляет собой социально значимую область знания, востребованную практикой современных социальных коммуникаций. Продемонстрировано, что современное состояние лингвистики текста позволяет соединять узкий и широкий подходы к пониманию текста, проводить анализ в направлении «от формы к смыслу» и «от смысла к форме», преодолевать асимметрию и субъективизм автора при вербализации замысла. Будучи гуманитарной областью знания, лингвистика текста не является точной наукой, но в истории ее развития отмечается тенденция к точности исследовательских процедур, метаязыка, категориального аппарата, единиц анализа. На примере новых работ в области лингвистики текста показано, что предмет изучения этой науки значительно усложнился. В то же время объединение исследовательских методик теории текста и теории дискурса позволяет сегодня этой науке решать сложные задачи, связанные с описанием и анализом новых текстовых явлений, востребованных практикой.
Текст, лингвистика текста, дискурс, метод, текстовая коммуникация, социальная коммуникация, точные науки, тенденция развития
Короткий адрес: https://sciup.org/14970382
IDR: 14970382 | УДК: 81'42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.2.1
Текст научной статьи Лингвистика текста в стремлении к точности и широте
DOI:
Понятие текста в современной лингвистике распространяется на все знаковые образования, включая в объект изучения визуализированные произведения, произвольно организованные речевые высказывания (например, естественная письменная речь), транслируемые по разным каналам восприятия и направленные на обслуживание разных сфер современной жизни. Давний спор ученых – сторонников узкого и предельно широкого понимания текста – сегодня получает примиряющее решение. Текст как объект изучения в современном языкознания наделяется свойством всеобщности («внетекстовой реальности не существует») [Деррида, 2000, с. 313], способности «определять характер сообщества» [Ellmore, 1992, р. 2], являться «конденсатором культурной памяти» [Лотман, 1996, c. 10], существовать в контексте сверхтекста культуры. В то же время не потерял своей актуальности семиотический подход к исследованию текста как сложного знака, многоканального транслятора смыслов, упорядоченного единства, дающего возможность для изучения внутреннего устройства текстовых произведений разных типов, оптимизации их знаковых возможностей, разработки новых моделей кодирования социально и личностно значимых смыслов.
К постановке проблемы
Приметой нашего времени стало усиление разнонаправленных тенденций в понимании и изучении текста, которые сегодня не являются антагонистическими, а определяют диалектическое единство природы текста как сложного знакового, социального и культурного феномена. С одной стороны, новые компьютерные технологии позволяют перейти от обмена готовыми текстами к моделированию естественной коммуникации с включением человека в социально-культурный контекст взаимодействия, вследствие чего значительно размываются границы традиционного понимания текста и дискурса. С другой стороны, формирование сетевого текстового пространства, знаковой среды существования человека стимулирует постоянное совершенствование процедур кодирования информации, ее интерпретации и хранения, что определяет важность разработки максимально точных методов анализа текстов, их переработки и хранения. Таким образом, стремление современной лингвистики текста, с одной стороны, к широте – к постановке и решению задач, востребованных социальной практикой, а с другой стороны, к точности процедур описания и воспроизведения информации позволяет выявить новое, не отмеченное ранее качество этой отрасли знания в ХХI веке [Ионова, 2012].
Есть такая наука
И.Р. Гальперин в своей книге «Текст как объект лингвистического исследования» еще в 1980 г. отмечал, что лингвистика текста стала одной из наиболее актуальных проблем отечественной науки [Гальперин, 1981]. Однако традиционный уровневый подход в языкознании предполагал, что прийти к осознанию текста как лингвистического феномена можно только «снизу», от предложения, найдя среди традиционных языковедческих проблем такие, разрешение которых невозможно без выхода за пределы предложения. Наука 30– 70-х гг. ХХ в. заложила основы для выделе- ния лингвистики текста в самостоятельную дисциплину, имеющую самостоятельный объект и предмет изучения. Вышедший в 1 978 г. под редакцией Т.М. Николаевой восьмой выпуск книги «Новое в зарубежной лингвистике», посвященный проблемам лингвистики текста, ознаменовал собой завершение этапа первичной систематизации знаний о тексте и наметил перспективы лингвистики текста как самостоятельной отрасли науки [Демьянков, 2005, с. 35].
К концу ХХ в. представление о тексте как о линейной последовательности знаков языка, которые позволяют кодировать информацию о многомерном пространстве жизни, получило закрепление во многих определениях (см.: определения текста, предложенные в работах Э. Бенвениста, Р.А. Будагова, Т.М. Николаевой, О.И. Москальской, Л.Н. Мурзина, А.С. Штерн и др.), утверждая первичность подхода к изучению текста в направлении «от формы к смыслу». В многочисленных концепциях текста, рожденных в недрах уровневого описания языковых явлений, предлагаемые модели тек-стообразования и понимания текста, разработка структурной модели содержания, типологи-зация речевых произведений, проводимая по разным основаниям, во многом способствовали формированию современных представлений о тексте как сложном, многомерном образовании, точному и непротиворечивому описанию его свойств и особенностей функционирования.
В это же время рассматриваемый феномен стал осмысливаться и в ином направлении – с позиций психолингвистики и когнитивной лингвистики, где процессы текстооб-разования изучаются в направлении «от смысла к форме» (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.И. Новиков, Л.В. Сахарный и др.) и на первый план вместо категории связности выходит категория цельности. Как показывают исследования ученых, функционально эти свойства текста являются выражением разных аспектов одной сущности и отражением особенностей право- и левополушарного устройства головного мозга человека [Сахарный, 1991, c. 223].
К концу ХХ в. лингвистика текста обосновывается как социально значимая область знания, востребованная практикой [Дридзе, 1984]. В начале ХХI в. текстовые компетенции уже вторгаются в житейский опыт, а научные знания о природе текста – в обыденные представления носителей языка, выступая в качестве интегративного качества личности, показателя развития ее культуры. Под текстовой компетенцией понимается целый комплекс знаний и умений, нацеленных на первичную и вторичную текстовую деятельность: 1) знание действительности, умение отражать ее в слове при тексто-образовании и понимать на основе интерпретационной деятельности; 2) умение проявлять свой взгляд на мир, свою творческую индивидуальность в выборе жизненного материала и его отражении в слове; осознание индивидуального авторского стиля; 3) знания о сферах общения, ситуациях, условиях общения и умение учитывать это при текстообра-зовании и восприятии текста; 4) знание об адресате и умение учитывать фактор адресата в процессе текстовой деятельности; 5) знание языковых ресурсов, умение их отбирать, организовывать в процессе текстовой деятельности [Жеребило, 2011, c. 87].
Вопрос о статусе данной науки сегодня не стоит, он безусловно признается лингвистами. Текст как когнитивная и коммуникативная единица выступает ярким признаком антропоцентризма и одним из основных объектов исследования в антропоцентрическом языкознании [Кубрякова, 1995, c. 148]. Тезис М.М. Бахтина «текст – первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины» [Бахтин, 1986, c. 308] не только приобрел актуальный смысл, но и мотивировал переосмысление предмета самого языковедения на современном этапе [Филиппов, 2003, c. 9].
«Неточных» наук быть не может
Лингвистика текста является одной из важнейших отраслей языкознания, позволяющих изучать разные способы представления знания и формирования смысла в речевых произведениях, а также механизмы восприятия и понимания заданного содержания. В тексте находят применение и реализацию все ресурсы языковой системы, все средства и способы выражения содержания. Однако сложность внутреннего устройства текста, многоаспектность его содержания, недостаточно определенный статус единиц и категорий, отсутствие структурных методов исследования текстовых произведений на начальных этапах развития этой отрасли языкознания не позволяли в достаточной мере формализовать лингвистическое описание анализируемых текстов, выявить специфические для лингвистики подходы их исследования, унифицировать метаязык описания и анализа. Нередко в рамках лингвистического изучения текста происходило заимствование методик смежных наук: литературоведческого анализа, контент-анализа, герменевтической интерпретации и др. Все это создавало впечатление отсутствия точности и определенности в исследовании текстовых произведений, субъективности результатов, получаемых в ходе их анализа.
Вероятно, именно данные причины вызвали дискуссию о лингвистическом статусе текста, о возможности выделения текстолин-гвистики в отдельную область знания. В работах профессора А.Т. Кривоносова данный период в развитии лингвистики текста называется «очередным этапом лингвистических заблуждений» [Кривоносов, 1986, c. 36], сама наука – «описательно-спекулятивной», пользующейся дилетантскими методами [Кривоносов, 1986, c. 36]. Подобные дискуссии в науке последней трети ХХ в. по сути сводились к «старому спору – в каком стане быть лингвистике?» [Будагов, 1972, c. 402]: точных наук или гуманитарных.
Высказывая мнение по поводу научного статуса языкознания в целом, Р.А. Будагов писал: «В подобном представлении, чтобы стать точной, наука должна лишиться своего гуманитарного аспекта. <...> Защитник приведенного тезиса даже не подозревает, что любая гуманитарная наука может весьма успешно развиваться, вовсе не лишаясь своего гуманитарного характера» [Будагов, 1972, c. 403]; «Каждая наука оперирует своим понятием точности, причем в пределах каждой, отдельно взятой науки подобная точность может быть максимальной даже независимо от того, одинаково или неодинаково истолковывают разные ученые основы данной науки. Поясним сказанное. Едва ли кто-нибудь станет сомневаться в точности теории относи- тельности, сыгравшей выдающуюся роль в физике XX столетия» [Будагов, 1972, c. 403]. Рассуждения ученого в значительной степени можно отнести к определению характеристик лингвистики текста.
В продолжение высказывания А.Р. Будагова отметим, что, несмотря на фундаментальный принцип познания как достижения определенности, гносеологически освоение мира и представление о нем опосредуется механизмами аппроксимации, под которой принято понимать «метод сознательного упрощения “слишком точного” теоретического знания с целью привести его в соответствие с потребностями и возможностями практики» [Левин, 2010]. Как гуманитарная область знания лингвистика текста в значительной степени антропоцентрична, несводима к абстрактным строгим структурным моделям, характерным, например, для единиц фонетического уровня языка. В этой области знания во многом пересматриваются традиционные подходы к изучению «укрупненных» лингвистических единиц: любой текст – это произведение человеческой деятельности (текстовой, познавательной, эмоциональной); человек всегда пристрастно отражает действительность; внутреннее устройство текста позволяет реализовать этот пристрастный взгляд на мир. Однако поскольку изображения объекта или представления о нем не могут быть истинными как таковые, вне соответствия, совпадения с отражаемым, то признается, что при определении истинности существенным является акцентирование внимания на отличии реальности от представления, изображения. Таким образом, лингвистика текста с самого начала имеет дело со смысловым сдвигом, в то же время критерии точности в ней не «расшатываются» даже тогда, когда «основы данной науки различно истолковываются в различных теоретических школах» [Будагов, 1972, c. 403].
Современный этап развития этой отрасли языкознания демонстрирует объективное движение к разработке более точных методов и подходов к анализу текстовых произведений, к установлению лингвистических признаков, позволяющих с достаточной степенью определенности интерпретировать их содержание и смысл, к конкретизации и детализа- ции описания текста как сложного и многоаспектного явления с опорой на языковые единицы. Ярким примером подобных исследований стала разработка важнейших категорий текста и их реализаций в разных коммуникативных контекстах и типах речевых произведений.
Наиболее сложным вопросом, связанным с точностью воспроизведения и понимания смысла текста, является дифференциация понятий «содержание» и «смысл», изучение понятия смысловой доминанты. Введенный К. Харди термин «смысловая доминанта» применяется для описания смысловых процессов восприятия текста. В работах психолингвистов конца ХХ в. получают определение такие термины, как «смысловая веха», «опорная точка», «креативный аттрактор» текста, которые понимаются как поля, смысловые области, формирующиеся вокруг доминантных лексем [Герман, Пищальникова, 1999; Залевская, 2001]. В контексте синергетической концепции текста смысловые доминанты текста рассматриваются в качестве динамических единиц: смысловая «зона гармонизации симметрии и асимметрии, организации и самоорганизации текста, зона притяжения всех элементов текста, позволяющая ему существовать как целому, одновременно допуская возможность его прерывания в состоянии относительной стабильности и перехода к иному состоянию» [Герман, Пищальникова, 1999, с. 55].
Применение разработанных принципов выявления смысловых доминант к анализу научных текстов представлено в работе Н.К. Рябцевой «Название как доминантный компонент научного текста: русско-английские межъязыковые несоответствия», включенной в данный номер журнала: на основе сопоставления доминирующих смыслов русскоязычных названий научных статей и их переводов на английский язык продемонстрированы способы смещения смысловой доминанты, нарушения смысловой точности при воспроизведении интенций и целей автора, стилевых особенностей оригинала.
В центре научных интересов лингвистов в ХХI в. остается исследование художественного текста, воплощающего в себе все языковые и речевые возможности автора при реализации замысла. В отличие от начальных этапов развития лингвистики текста, сегодня художественный текст рассматривается как сложное, многоуровневое речевое произведение, которое, однако, имеет конститутивные признаки, свойственные любым другим текстам, и может анализироваться с применением разработанных для них объективных методов лингвистического анализа. Это дает возможность рассматривать в качестве предмета исследования в том числе экстралинг-вистические категории произведения, которые ранее в лингвистике не изучались. Так, в центре статьи Н.А. Фатеевой, вошедшей в данный номер журнала, находятся вопросы языковой креативности автора поэтического текста, которая исследуется с применением лингвистического анализа грамматических единиц как маркеров текстовой деятельности автора. Демонстрируется, что продуктивность и парадигматичность авторских новообразований тесно связана с моделями языковой деривации, а их использование дает возможность каждому пишущему реализовать себя в индивидуально-авторских формах.
Точность языка художественной литературы – явление особое, обладающее своими критериями. Анализ формы текста, совершенствование методов описания здесь должно стремиться к полноте и структурной определенности, хотя однозначность интерпретации авторского смысла зачастую невозможна, нефункциональна, не соответствую-ет типу дискурса. Данный аспект художественного текста требует от исследователя применения комплекса методов в рамках антропоцентрической методологии в языкознании, а для адресата составляет отдельный вид текстовой деятельности: «Чтение книг, то есть их дешифровка, – это напряженная работа, которой надо специально обучать, но зато получаемые сведения становятся частью сознания и мировоззрения личности» [Костомаров, 2010, p. 145].
Широта социальных коммуникаций и текст
Известно, что верная теория всегда порождает мысли, простирающиеся к приращению общественной пользы» (М.В. Ломоносов). Акцентирование внимания ученых на взаимо- связи языка и жизни – это не просто метафора, а основной принцип научной деятельности, востребованный современной практикой. Практическая значимость речевых произведений как объектов лингвистики текста состоит в обеспечении текстовой коммуникации в обществе, под которой понимается «обмен действиями порождения и интерпретации текстов, в ходе которой выясняется, способны или не способны люди понимать друг друга» [Дридзе, 1984, c. 145].
Тексты сопровождают процессы коммуникации, информационных обменов, которые сегодня уже не могут быть сведены к трехэлементной схеме К. Шеннона (автор – сообщение – получатель). Они обеспечивают биологическое и социальное существование человека, его ориентацию в информационной среде, поэтому такие практические умения, как понимание содержания текста, оформление в виде документа, пересказ с иными целями, конспектирование или тезисное изложение, составление резюме и т. д., – входят в число формируемых умений и навыков.
Речевые произведения сегодня приобретают ценность не только с позиций современной теории языка, но и в прикладном аспекте, в плане реализации их в междисциплинарных областях: в сферах издательской деятельности и документалистики; электронной коммуникации и компьютерного дела; массовой коммуникации и информационного менеджмента; в юридической практике и автороведении; психодиагностической и лингвотерапевтической сферах; корпусной лингвистике и др.
Значительное расширение сферы функционирования текстов обусловило появление в терминологическом базисе этой науки понятия «дискурс», которое было призвано акцентировать внимание исследователей на динамическом аспекте текстообразования, его включенности в жизнь [Арутюнова, 1990]. В современной лингвистике накоплен багаж знаний, связанных с дискурсивной теорией и практикой: выработаны функциональные определения дискурса, охарактеризованы его типичные элементы, разработаны типологии дискурсов по разным основаниям; описаны многочисленные дискурсивные практики в разных сферах межличностной и институциональной коммуникации.
Одним из важных вопросов, касающихся современной теории дискурса, является соотношение этого понятия с понятием «текст». Несмотря на значительную теоретическую разработанность этого вопроса, он остается открытым в связи с возникновением новых сфер коммуникации, требующих внесения корректив в существующие представления о речевой и текстовой коммуникации (например, развитие сферы компьютерной коммуникации, сетевого общения со свойственной им устно-письменной формой фиксации информации, изменением форм существования текста, имитацией непосредственного общения).
Следуя принципу «любой текст может быть осуществлен в любой форме» [Kостомаров, 2010, p. 143], автор вправе самостоятельно выбирать форму воплощения своих интенций. При этом решающее значение в выборе адекватной, уместной и эффективной формы их выражения приобретают дискурсивные условия осуществления взаимодействия между автором и адресатом. Таким образом, обращение к теоретическим вопросам лингвистики текста неразрывно связано с изучением вопросов теории дискурса. Подобный подход представлен, например, в статье Е.Ф. Кирова «Текст и дискурс в семиотическом соотношении», включенной в данный номер журнала: автор утверждает, что текст представляет собой знак дискурса и обязательно существует в одной из коммуникативных позиций – сильной, слабой или сверхслабой, а предельным совпадением текста и дискурса является перформативный дискурс и текст.
Проблема зависимости форм текстов от дискурсивных сфер их функционирования сегодня приобретает особую актуальность, поскольку современная жизнь предоставляет все больше возможностей для формирования новых информационных и коммуникативных пространств, в которых образуются новые, ранее не востребованные типы текстов. Исследуя сферу гостиничного бизнеса, О.С. Ис-серс (см. ее статью в данном номере журнала) пришла к выводу о том, что в его дискурсивном пространстве не просто апробируются новые формы текстов, а складывается це- лая система новых жанров: путеводитель по отелю, тексты экологической направленности, «жанры заботы»; существующие жанры обогащаются новым содержанием, приобретая коммуникативно-прагматическую специфику в новом дискурсе (тексты буклетов и иных информационных материалов, размещаемых в номере отеля), иллюстрируя тезис о том, что дискурсивные практики всегда функционируют в диалектическом взаимодействии с другими социальными практиками.
Совокупность признаков текста, которые обеспечивают относительную независимость от ситуации общения и его воспроизводимость, позволяет охарактеризовать текстовое произведение как «упакованную коммуникацию» [Дымарский, 2001, c. 35], в которой в снятом виде, при помощи знаков языка представлены все основные параметры коммуникативной ситуации (образ автора, образ адресата, характер сообщения, языковой код, характер контакта между автором и потенциальным адресатом, отношение к контексту других сообщений). Таким образом, текст вне дискурсивных условий способен отражать коммуникативные стратегии и тактики участников коммуникации, изучение которых требует применения специальных лингвистических подходов к анализу материала.
Один из таких подходов, имеющих социально значимые цели, предполагает разработку комплекса лингвистических приемов, направленных на выявление скрытой прагматики текста, состоящей в неосознанном использовании автором специальных языковых и речевых средств, которые предназначены для воздействия на читателя (см. статью Г.Г. Матвеевой и И.А. Зюбиной в данном номере журнала). Ученые отмечают зависимость организации письменного текста от выбора жанра (научный, научно-популярный и учебный), от ориентации автора на единичного или массового адресата, от вида (эмотивного или конативно-го) планируемого речевого воздействия, от стратегии скрытого воздействия и экстралинг-вистических факторов. Таким образом, даже прямо не вербализуемые коммуникативные стратегии и тактики автора текста сегодня получают достаточно точное лингвистическое описание, основанное на применении объективных методов лингвистического анализа.
В социальном контексте процессы тек-стообразования приобретают черты сознательного действия автора по «конструированию смыслов» [Дридзе, 1984, c. 42–43]. В указанном аспекте сегодня изучается и такое сложное явление вербального взаимодействия, как эмоционально опосредованная коммуникация. Осознанность и контролируемость в демонстрации эмоций может осуществляться с разными стратегическими целями: воздействия на окружающих, демонстрации лояльности, доброжелательности, предупреждения возможного конфликта, – где она выполняет социальную функцию: повлиять на восприятие собеседником ситуации и на ее понимание [Ларина, 2003, c. 166].
В силу динамичности эмоциональных процессов и сложной кластерной природы эмоций их непосредственное проявление в дискурсивных условиях не всегда адекватно переводится в вербальные формы. В связи с этим ученые все чаще обращаются к традиционному материалу – текстам сложной структуры, художественным текстам, в которых зафиксированы эмоциональные явления в их многоаспектности. Так, в работах Л.А. Калимуллиной отрабатываются формы анализа и описания типичных моделей эмоционально опосредованных ситуаций страха, включающих такие частные признаки, как ‘ предметность эмоции ’, ‘ внутренняя / внешняя причинная обусловленность ’, ‘ связь с интеллектуальной и волевой сферами ’ и др.; ‘ временнaя актуализованность (эпизодичность) / вневременность (стабильность )’, ‘ статичность / динамичность ’, ‘ фазис-ность протекания ’ и др. [Калимуллина, 2002]. Параметризация эмоциональных коммуникативных ситуаций осуществляется на основе учета дискурсивных условий, однако форма воплощения эмотивной информации здесь текстовая, позволяющая использовать комплекс дискурсивных методов, а также методик текстового анализа.
Выводы
Известно, что толкование эмпирических фактов только тогда считается научным, ког- да это толкование становится объективным и получает возможность стать общепризнанным. Современная лингвистика текста в ее стремлении к точности метаязыка, единиц описания, категорий, исследовательских методик за короткий промежуток времени достигла значительных результатов и по праву считается сегодня объяснительной отраслью науки, достижения которой востребованы в практике социальных коммуникаций и других прикладных сферах жизнедеятельности человека.
Свидетельством значительного прогресса в изучении процессов текстообразования, текстопреобразования и понимания текста является объективная готовность этой науки, обогащенной теорией дискурса, изучать самые сложные знаковые явления – от текстов-примитивов [Сахарный, 1991] как моделей свернутой формы существования смысла до текста как «абсолютной тотальности» [Деррида, 2000]; исследовать многообразные семантические и прагматические стратегии перевода события в текст; фиксировать бесконечно вариативные способы вербализации информации о действительности; объективировать субъективные модели коммуникативных ситуаций; преодолевать неизбежную асимметрию реальной и отраженной в тексте информации.
Список литературы Лингвистика текста в стремлении к точности и широте
- Арутюнова Н. Д., 1990. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл. С. 136-137.
- Бахтин М. М., 1986. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 445 с.
- Будагов Р. А., 1972. О предмете языкознания//Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXXI, вып. 5. С. 401-412.
- Гальперин И. Р., 1981. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука. 138 с.
- Герман И. А., Пищальникова В. А., 1999. Введение в лингвосинергетику. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 130 с.
- Демьянков В. З., 2005. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка//Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой/отв. ред. В. Н. Топоров. М.: Языки славянских культур. С. 34-55.
- Деррида Ж., 2000. О грамматологии. М.: Ad Marginem. 511 c.
- Дридзе Т. М., 1984. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциопсихологии. М.: Наука. 268 с.
- Дымарский М. Я., 2001. Проблемы текстообразования и художественный текст: на материале русской прозы XIX-XX вв. М.: Эдиториал УРСС. 328 с.
- Жеребило Т. В., 2011. Термины и понятия: методы исследования и анализа текста: слов.-справ. Назрань: Пилигрим. 108 с.
- Залевская А. А., 2001. Текст и его понимание. Тверь: Изд-во ТГУ. 178 с.
- Ионова С. В., 2012. Направления современных исследований текста//Россия лингвистическая: научные направления и школы Волгограда: коллектив. моногр. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. С. 195-212.
- Калимуллина Л. А., 2002. Фреймовый подход к анализу эмотивной лексики в художественном тексте//Реальность, язык и сознание: Междунар. межвуз. сб. науч. тр. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та. С. 328-331.
- Костомаров В. Г., 2010. Дисплейный текст как форма сетевого общения//Russian Language Journal. Iss. 60. Divergent Thinking: Prospectives on the Language Enterprise in the 21st Century. P. 141-147.
- Кривоносов А. Т., 1986. «Лингвистика текста» и исследование взаимоотношений языка и мышления//Вопросы языкознания. № 6. С. 23-37.
- Кубрякова Е. С., 1995. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа)//Язык и наука конца ХХ века: сб. ст. М.: ИЯ РАН, 1995. C. 144-238.
- Ларина Т. В., 2003. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах. М.: Изд-во РУДН. 316 с.
- Левин Г. Д., 2010. Аппроксимация//Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль. Т. 1. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH6747acdc7baf38e6cfee67.
- Лотман Ю. М., 1996. Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М.: Школа «Языки русской культуры». 464 с.
- Сахарный Л. В., 1991. Тексты-примитивы и закономерности их порождения//Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука. С. 221-237.
- Филлипов К. А., 2003. Лингвистика текста: курс лекций. СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 336 с.