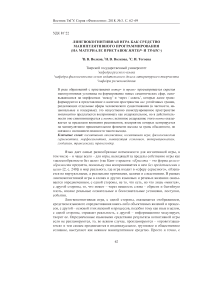Лингвокогнитивная игра как средство манипулятивного программирования (на материале приставок интер- и транс-)
Автор: Волков Валерий Вячеславович, Волкова Наталья Васильевна, Тогоева Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В ряде образований с приставками интери транспросматривается скрытая манипулятивная установка на формирование новых семантических сфер, основывающихся на морфосемах ‘между’ и ‘через / сквозь’, которые далее трансформируются в представление о наличии пространства вне устойчивых границ, разделяющих отдельные сферы человеческого существования (в частности, национальные и гендерные); это искусственно сконструированное пространство имплицитно предлагается воспринимать как содержательное, но в действительности оно синонимизируется с ничто; истинное содержание этого ничто оказывается за пределами внимания реципиентов, восприятие которых центрируется на манипулятивно привлекательном феномене выхода за грань обыденного, не связано с осознанием опасности такого выхода.
Когнитивная лингвистика, когнитивная игра, филологическая герменевтика, морфосемантика, манипуляция сознанием, интернационализм, глобализм, транссексуал, трансгендер
Короткий адрес: https://sciup.org/146281292
IDR: 146281292 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Лингвокогнитивная игра как средство манипулятивного программирования (на материале приставок интер- и транс-)
Язык дает самые разнообразные возможности для когнитивной игры, в том числе – и чаще всего – для игры, выходящей за пределы собственно игры как «целесообразности без цели» (так Кант о красоте: « Красота - это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели » [2, с. 240]) в мир реального, где игра входит в «сферу серьезного», облекается не виртуальными, а реальными причинами, целями и следствиями. В рамках лингвокогнитивной игры в словах и других языковых и речевых явлениях оказывается опредмеченным, с одной стороны, не то, что есть, но что лишь «мнится», с другой стороны, то, что может – через вещность слова – обрести и бытийную плоть, вполне реальные сознательные и бессознательные установки, поступки, события.
Лингвокогнитивная игра, с одной стороны, оказывается отображением, средством языкового опредмечивания каких-либо объективных явлений и процессов, с другой – основой этих явлений и процессов, подобно тому как язык в целом, с одной стороны, отражает реальность, с другой – информационно модулирует, творит ее. Опредмеченные языковыми средствами результаты когнитивной игры если не рекламируются, то, во всяком случае, прокламируются – «провозглашаются» и тем самым продвигаются в индивидуальное, групповое и общественное сознание, выступают как неявное манипулятивное средство. Просто и точно, с явной аллюзией на учение Платона об идеях, насыщенных особыми энергиями, об этом писал в своем «Журнале» лермонтовский Печорин: «…идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует…» [4, с. 540]. Об одном из таких лингвокогнитивных средств, незаметных для невдумчивого восприятия, скрытых в морфосемантических явлениях и потому особенно эффективных для труднораспознаваемой манипуляции сознанием, и идет речь в данной работе.
Производные слова (узуальные, давно бытующие в языке, и новые – как общеупотребительные, так и сравнительно редкие, в том числе термины различных наук) с приставками интер - и транс - по степени прозрачности внутренней формы, способу их существования в языковом сознании, а затем по эвристическому и «манипулятивному» потенциалам существенно различаются.
Основной исследовательский прием, который далее нами используется, целесообразно именовать реэтимологизацией – «“оживлением” в языковом сознании … синхронической и этимологической внутренней формы лексемы» [3, с. 61].
В качестве примера «реэтимологизационного» подхода к материалу, вскрывающего специфическую многозначность морфемы интер -, в значении которой в качестве взаимосвязанных выступают семы ‘между’ и ‘внутрь / внутри’, назовем интерес – существительное, выпадающее из ряда приставочных образований, поскольку морфема интер - в данном случае выступает в качестве корневой. Современное русское сущ. интерес в результате опрощения воспринимается как нечленимое, его основное значение представляется очевидным и простым («особое внимание к чему-л., желание вникнуть в суть, узнать, понять»), однако обращение к семантическому этимону выявляет небезынтересные лингвогерменевтические нюансы. Лат. interesse ‘быть (посреди), находиться (между); присутствовать, участвовать’ – от inter ‘между’ + esse ‘быть, существовать; происходить, совершаться’. Следовательно, буквальная калька – «междусущий», возможное дальнейшее герменевтическое прочтение интереса – «не мотивированное утилитарными либо корыстными соображениями желание искать нечто, скрытое между очевидными вещами». Наличие периферийной, но существенной семы ‘бескорыстие’ косвенно подтверждается коннотативной энантиосемией потенциально мелиоративного неутилитарного интереса с потенциально пейоративным производным интересант («тот, кто руководствуется личным интересом , расчётом, корыстью, выгодой»). Сема ‘искать между ’ в случае с интересант контаминирует с ‘втягивать внутрь ’ (своего корыстного жизненного мира). Аналогично с глаголом интересничать : ‘стараться вызвать к себе интерес ’, втянуть внутрь круга своих интересов, подчинить интерес другого своему собственному.
Заметим, кстати, что в этимологической внутренней форме существительного реклама (< фр. reclame – из лат. reclamare ‘громко возражать, шумно протестовать; громко выкрикивать, звать’ < re… ‘назад; еще раз’ + clamare ‘кричать, выкрикивать, восклицать > громогласно звать, призывать; провозглашать, объявлять’) также усматривается сема ‘вовлечение внутрь (корыстных интересов субъекта рекламы)’, поскольку в префиксе ре- вторичное усилительное значение оказывается в контаминации с этимологически исходным значением обратного действия (‘назад, к себе’), как в реабилитация, реанимация, реставрация и т. п. Скрытая или даже явная манипулятивная направленность рекламы, связанная с нацеленностью на управление поведением потребителя, таким образом, усматривается уже в самом сущ. реклама, если всмотреться в него с позиций морфематической реэтимологизации. Интерес, который призвано вызвать у реципиента рекламное сообщение, оказывается связанным не только с семой ‘между’ (предметом потребления и покупателем / потребителем), но и с семой ‘внутрь’ (неявное, по существу манипулятивное вовлечение покупателя / потребителя внутрь интересов субъекта рекламного сообщения – производителя, посредника и т. п.).
Так лингвогерменевтическое прочтение лексемы интерес оказывается морфосемантическим «ключиком» не только к выявлению специфических смыслов, скрытых в этой лексеме, но и к специфике межличностного взаимодействия в рамках различных социальных сфер, в частности, «ключиком» к феномену продвижения товаров и услуг на рынке (маркетологический термин – продажи ), которое в другой проекции оказывается вовлечением в их потребление; к педагогической деятельности, где пробуждение интереса также служит задаче вовлечения обучающихся в предмет освоения, независимо от истинных интересов и склонностей ученика, и т. д.
Наложение и/или (неявная) взаимозамена семантических компонентов ‘между’ и ‘внутрь / внутри’ с доминированием последнего усматривается во многих реальных феноменах, опредмечиваемых производными с интер - в качестве корневой или префиксальной морфемы. С полной очевидностью сема ‘внутрь / внутри’ усматривается во многих словах с интер - (ср., например: интервенция, интернат , интернатура , интернировать , интерьер и их производные), в том числе в таких, которые обнаруживают, с одной стороны, свойства эвристической неманипулятивной когнитивной игры (новые слова в их взаимосвязи с новыми смыслами, идеями, видами деятельности), с другой стороны, свойства нацеленности на манипуляцию сознанием как такой вид когнитивного воздействия, который нацелен на подчинение сознания и поведения реципиента (объекта манипуляции) целям субъекта манипуляции.
Эвристическая неманипулятивная лингвокогнитивная игра , связанная с морфосемантическими эвристиками как средствами обнаружения нового знания, может быть усмотрена, например, в недавних филологических и семиотических терминах интердискурс / интердискурсивность, интериконичность, интермеди-альность, интертекст / интертекстуальность и т. п., характерная черта которых – когнитивные установки не только / не столько на выявление связей между разными дискурсами или образами, но и / сколько на поиск нового, находящегося «между», а именно – внутри меж-дискурсивного, меж-óбразного, меж-текстового пространства. Контаминация сем ‘между’ и ‘внутрь / внутри’ в случаях такого типа может быть однословно охарактеризована как ‘взаимосвязь / взаимодействие’, далее интерпретирована как наложение смежных семантических полей, приводящих к формированию нового, относительно самостоятельного субполя, что весьма наглядно, например, в случае прилагательного интердисциплинарный ( междисциплинарный ), которое явно связано с установкой на выявление и формирование новых областей знания на стыке наук ( междисциплинарное знание ).
Поэтому интердискурсивность – не просто и не только взаимодействие, наложение разных дискурсов, вербальных и невербальных, но и некое «пространство наложения», например: компьютерный интердискурс – это и словесное общение людей на компьютерные темы, включая профессионально-терминологическое и жаргонное, и внесловесное общение пользователя с компьютером, которое может быть описано некоторыми речениями, но может протекать и вне словесно- го оформления (типа посмотрел – увидел – сделал, как в компьютерных играх); молодежные субкультуры тоже складываются как интердискурсивные явления, в рамках которых показатели «свой – чужой» носят и вербальный, и невербальный характер (помимо специфических речений и прецедентных для данной субкультуры текстов, это и одежда, макияж, жестика, мимика, особые места встреч – «тусовок» и т. д.).
Интертекст и далее интертекстуальность – не просто «подборка цитат» на одну тему из разных источников, скрытое или явное цитирование как средство связи разных текстов / фрагментов, но особое, самостоятельное явление – неавтономное (внутри более крупного) или автономное. Например, словарь афоризмов – принципиально иной (интертекстуальный) феномен, чем отдельно взятые афоризмы, это инотекстовое по отношению к своим источникам отображение совокупной мудрости как целостности, находящееся по отношению к источникам в совершенно иной жанрово-типологической плоскости. Библейские интертекстуальные аллюзии в современных секулярных текстах связаны с особой ситуацией, особым семантическим полем слиянности сакрального и секулярного, с (частичной) десакрализацией религиозного и сакрализацией секулярного, ср.: Не убий в этом совокупном семантическом пространстве не значит «не убивай вообще никого никогда», но «не убивай из личной прихоти, не согласуясь с волей Творца и/или с государственной военной необходимостью, с целями защиты близких и т. п.»); Господь – не только Бог Отец, «Вседержитель, Творец неба и земли, видимых же всех и невидимых», как в Символе веры, но и всеприсутствующий Дух Святой, проницающий всё вокруг меня и даже меня самого.
Интермедиальность – не просто «перекодирование информации на основе ее перевода из одной сенсорной модальности в другую» [1, с. 138], но реализация установки на совмещение в пределах одного текста культурных кодов, основывающихся на разных модальностях, в целях достижения синергетического эффекта, втягивание исходных феноменов внутрь иной, новой семиотической реальности; интериконичность – не просто «визуализованная интертекстуальность», но, как в случае с оперой или балетом, синергия – «совместнодействование» визуальных образов внутри совершенно особенной эстетической реальности, для которой в некотором условном экстремальном случае не нужно никакое либретто как словесное опредмечивание ее содержания.
Манипулятивная нацеленность прежде всего должна быть усмотрена в интернационал / интернациональный и их производных (типа интернационализм, интернационалист ). Различные мифологемы «светлого будущего», как правило, включают утопическое представление о преодолении раздора между людьми, народами, государствами (по Пушкину: «…Когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся»); одна из таких мифологем центрируется на прилагательном интернациональный с его базовой идеей единения наций на основе их мирного взаимодействия.
Внешне, на невдумчивый взгляд, в интернациональный и родственных ему наличествует только одна морфосема – ‘между’, что более явно в русифицированном варианте межнациональный. Однако если в этом русифицированном варианте, а тем более в аналогичном ему международный именно семантический компонент ‘связь между’ (народами, нациями) является единственно актуальным, то интернациональный – дело иное (закономерно словосочетание международные отношения не синонимизируется с сомнительным по корректности «интернациональные отношения»). Интернационализм как идеологическое и политическое явление, в соответствии со вторичным значением префикса интер- ‘внутрь / внутри’, предполагает вовлечение наций в некое особое интер-пространство между ними, в котором (внутри которого) своеобразие каждой нации оказывается нейтрализованным, как в космической черной дыре исчезает различие между отдельными химическими элементами, которые «нейтрализуются» в супраэлементарных частицах. Идея интернационализма как мирного единения наций, таким образом, оказывается манипулятивным средством вовлечения внутрь глобальной вненациональной «черной дыры», составляющие которой лишены своеобразия, собственной аутоидентичности, то есть средством вовлечения в процессы национального распада до элементарных человеко- и социо-частиц некоего глобального целого.
Интернационализм , преподносившийся как идея единства различного, в свое время активно эксплуатировался коммунистической идеологией в целях сделать весь мир одноликим «коммунистическим раем», на деле же – Pax Sovietica , «Советским миром», «миром по-советски, по-коммунистически». С завершением Холодной войны 1946–1991 гг. на мировой арене единственно доминантной оказывается семантически изоморфная интернационализму идея транснационализма и глобализма , нацеленная на создание одноликого Pax Americana – «Американского мира», «мира по-американски», с нивелировкой не под коммунистическую, а под глобалистскую идеологию.
Семантически ключевая приставка в прилагательном транснациональный – транс -, ближайшие русские аналоги – предлог сквозь с доминантной семой ‘пронзить / пронизать’ (движение через внутреннюю часть чего-л.), предлог и приставка через с доминантной семой ‘пересечь / пересекать’ (движение через внешние границы чего-л.). Основное значение латинского этимона trans ‘сквозь, через’ ассоциируется с внешними границами, соотносится прежде всего с рус. через ; в современном русском словоупотреблении префикс транс - развивает ряд частных словообразовательных значений, актуализация которых определяется спецификой внутрисловного контекста, ср.: 1) «движение через какое-л. пространство, пересечение его»: трансарктический, трансмутация (пространственная динамика) 2) «следование, расположение за чем-л., по ту сторону чего-л.»: трансальпийский (пространственная статика); 3) «передача через посредство чего-л.»: транскрипция , транслитерация (пространственная метафора, отсылающая к представлениям о передаче информации). На этой языковой базе в конкретных производных могут появляться разнообразные семантические приращения с потенциальными эмоционально-оценочными смыслами как мелиоративного, так и пейоративного характера – в зависимости от условий общения и интенциональных установок говорящего / пишущего.
В транснациональный значение ‘сквозь, через’ и производное ‘дальше’ развиваются во ‘вне’ (транснациональный = «вненациональный»). Интернационализм в современном транснационализме и глобализме более радикален, основывается на идее насильственного единообразия («уединоображивания») и «управления миром» из единого центра, далее трансформируется в сугубо деловой политический вопрос о конкретных субъектах управления и «мировом правительстве», подчиняющем своим решениям абсолютно всех абсолютно любыми методами. Этот вопрос из представляющейся чаще всего полуфантастической «теории заговора», якобы пригодной лишь для конспирологии как паранауки и ее сторонников как потенциальных параноиков, движимых бредом преследования, превращается в кошмарную реальность очередной мировой войны – точнее, «мировойны» [5], в рамках которой состояние мира неотличимо от состояния войны. Данная ситуация опредмечивается в лексемах транснациональный / транснационализм и глобальный / глобализм, оценочная окраска которых в восприятии различных социальных групп колеблется от безусловного приятия до безусловного неприятия, результирует в мелиоративные и пейоративные оценочные реакции.
Налицо подмена понятий на основе морфосемантической лингвокогнитивной «игры», вышедшей в сферу «очень серьезного». Транснациональный (морфе-матически транс-наци-ональн-ый ) непосредственно воспринимается как «связанный с преодолением национальных границ в целях сотрудничества наций», ключевой элемент в этом толковании – существительное со -трудничество , в логике приставки со- (значение совместности) предполагающее равноправную совместную деятельность в интересах всех участвующих сторон. Скрытая сема – «сверх», что выявляется в русском варианте над -национальный , то есть стоящий «над» отдельными нациями, «поверх» отдельных наций. Отсюда вопрос: кто-что оказывается «над» совместно действующими нациями, обеспечивая целевую направленность их взаимодействия? И как иерархизируются цели, с одной стороны, отдельных наций, с другой стороны, цели того / тех, кто-что стоит (присваивает себе право стоять) над отдельными нациями? В приоритете, естественно, интересы того / тех, кто контролирует совместную деятельность, то есть оказывается «над» отдельными нациями.
Заметим, кстати, что в ключевом для прокоммунистического интернационализма лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» скрыта интенциональность, изоморфная современному атлантическому транснационализму : «соединяйтесь» – под чьим руководством / «крылом», ради чьих интересов? «Соединиться» сами по себе «пролетарии» не могут, – нужна направляющая и руководящая, организующая сила. Семантическая связь рассматриваемых лексем, манипулятивно программирующих сознание реципиентов на движение к «прекрасному новому миру» без национально-своеобразных лиц, может быть компактно отображена в каузально-темпоральной цепочке интернациональный → транснациональный → глобальный , вре-меннáя развертка которой устремлена к глобализации как конечной задаче.
Глобализация в опорной для нас лингвогерменевтической логике может быть квазисинонимизирована с социально-политической и культурной трансмутацией национального, с его движением за свои собственные границы в нечто иное, а именно – в национальное ничто . Такая трансмутация – не превращение / преображение исходного национального в иное национальное (ср. в алхимии: трансмутация свинца в золото – другой, но все-таки химический элемент), но исчезновение / растворение индивидуально-национального в примитивно-однообразном, предельно упрощенном, глобально-безликом, как безлик, тождествен ничто манекен – несмотря на внешнее сходство с живым человеком.
В данном случае манипулятивный манок (у охотников, рыбаков – искусственная приманка, имитирующая живое и ценное) глобализации как трансмутации – превращения национального во вненациональное – эксплуатирует присущее человеку стремление к преодолению границ.
Это же стремление составляет манипулятивную основу явлений, нацеленных на стирание половых («гендерных») различий, которые фиксируются отдельными лексемами и целыми морфемными гнездами, выстраивающимися в каузально-темпоральную последовательность: 1) от связанного преимущественно с игровым поведением трансвестит (синонимы: спец. трансверт и разг. транс) – «человек с нестандартной сексуальной ориентацией, проявляющейся в стремлении иметь внешность и манеры, носить одежду противоположного пола» [6, с. 994]; 2) к утрачивающему в условиях ультралиберальной идеологии черты медицинского диагноза, начинающему восприниматься лишь как личностная особенность транссексуал (транссексуализм, транссексуальный) – в первом значении «человек, ощущающий себя существом противоположного пола»; 3) наконец, к транссексуал (транссексуализм, транссексуальный) во втором значении «человек, изменивший свой пол путем хирургической операции» [Там же, с. 995]. Манипулятивность в данном случае основывается на смене оценочно-стилистической парадигмы: из медицинского термина, фиксирующего редкую особенность половой самоидентификации, присущую лишь некоторым, очень немногим людям, транссексуал (и совсем новое трансгендер) превращается в общеупотребительное слово, однако при этом не просто детерминологизируется в стилистически нейтральное, но в глазах ультралиберально настроенной части населения обретает мелиоративную окраску, связанную с модной семой ‘круто’. При этом оказывается незамечаемым, что трансгендерность – не «преодоление границ своего биологического пола», как побуждает думать внутренняя форма этого новообразования, но выход за границы человеческого существа – в ничто, в бес-полость, бесполую пустоту (онтологическое ничто), истинный смысл целенаправленного (движимого некоей скрытой от непосредственного наблюдения волей) формирования которой оказывается за пределами внимания тех, кто, не распознавая манипулятивной природы данного явления, принимает его как должное.
Таким образом, в ряде образований с приставками интер - и транс - просматривается скрытая манипулятивная установка на формирование новых семантических сфер, основывающихся на морфосемах ‘между’ и ‘через / сквозь’, которые далее трансформируются в представление о наличии пространства вне устойчивых границ, разделяющих отдельные сферы человеческого существования (в частности, национальные и гендерные); это искусственно сконструированное пространство имплицитно предлагается воспринимать как содержательное, но в действительности оно синонимизируется с ничто ; истинное содержание этого ничто оказывается за пределами внимания реципиентов, восприятие которых центрируется на мани-пулятивно привлекательном феномене выхода за грань обыденного, не связано с осознанием опасности такого выхода.
LINGVO-COGNITIVE GAME AS THE MEANS
OF MANIPULATIVE PROGRAMMING
Tver State University
1Department of the Russian Language
2Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation 3Department of Regional Studies
A number of lexical complexes with prefixes inter - and trans - reveal a hidden manipulative bias, which aims at forming new semantic spheres, similar to those based on morpho-semes ‘between’ and ‘across / through’, with the former’s further transformation into a notion of a certain space existing without and beyond any stable boundaries, which in ordinary perception segregate separate spheres of human existence (national and gender, in particular). This artificially constructed space is implied as bearing some significance, while in reality it can be identified with nothingness whose real meaning falls beyond the scope of recipients’ perception, who, in their turn, focus their attention on the ever-attractive, though produced by manipulation, phenomenon of transcending the boundaries of the ordinary and commonplace, unaware of how dangerous this transcendentation may in reality be.
Список литературы Лингвокогнитивная игра как средство манипулятивного программирования (на материале приставок интер- и транс-)
- Волков В. В. Интермедиальность как атрибут художественности (лингвогерменевтика термина)//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2014. № 2. С. 135-142.
- Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1966. 564 с.
- Кушнир О. Н. Эволюция русской концептосферы на рубеже XX-XXI вв.: вопросы динамической лингвоконцептологии: монография. Сыктывкар: КРАГСиУ,
- 2012. 347 с.
- Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. 704 с.
- Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов/Сост. Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. М.: Книжный мир, 2015. 416 с.
- Толковый словарь русского языка начала XXI века: Актуальная лексика/Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2008. 1136 с.