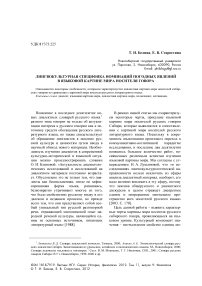Лингвокультурная специфика номинаций погодных явлений в языковой картине мира носителя говора
Автор: Белица Татьяна Ивановна, Старостина Елена Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Способы языковой репрезентации картины мира
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Описываются некоторые особенности, которыми характеризуется диалектная картина мира носителей сибирских говоров по сравнению с картиной мира носителя русского литературного языка.
Диалект, языковая картина мира, диалектная картина мира, полисемант, мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737944
IDR: 14737944 | УДК: 81''373.225
Текст научной статьи Лингвокультурная специфика номинаций погодных явлений в языковой картине мира носителя говора
Появление в последнее десятилетие новых диалектных словарей русского языка 1 разного типа говорит не только об актуализации интереса к русским говорам как к источнику средств обогащения русского литературного языка, но также свидетельствует об обращении лингвистов к исконно русской культуре и ценностям путем ввода в научный обиход нового материала. Необходимость изучения диалектов в современной культурно-исторической и языковой ситуации можно проиллюстрировать словами О. И. Блиновой: «Актуальность диалектологических исследований и исследований на диалектном материале постоянно возрастает. Обусловлено это не только тем, что диалекты как бесписьменная, нигде не зафиксированная форма языка, развиваясь, безвозвратно утрачивают многое из того, что было свойственно русскому языку в его далеком и недавнем прошлом, но прежде всего тем, что они представляют собой особый уникальный тип русской разговорной речи, отражающей многовековой опыт народной речевой культуры, являющейся одним из основных источников, питающих литературный язык» [1988].
В рамках нашей статьи мы охарактеризуем некоторые черты, присущие языковой картине мира носителей русских говоров Сибири, которые выявляются в сопоставлении с картиной мира носителей русского литературного языка. Поскольку в современном языкознании произошел переход к коммуникативно-когнитивной парадигме исследования, в последние два десятилетия появилось большое количество работ, посвященных различным аспектам изучения языковой картины мира. Мы согласны с утверждением Н. А. Лукьяновой, что «в исследованиях лингвокультурологической направленности нельзя исключать из сферы анализа диалектный материал, наоборот, его надо активно вовлекать в эту сферу, потому что лексика общерусского и диалектного дискурсов в целом отражает дискретное единое и непрерывное ментальное пространство всех носителей русского языка» [2003. С. 170].
Цель данной работы – выявить характерные черты картины мира носителя русского сибирского говора, проявляющиеся на языковом уровне. Культурный компонент значения – неотъемлемое свойство единиц лю- бого национального языка на всех уровнях, а наша задача – проследить проявления этого компонента и описать их. Помимо термина «языковая картина мира» (далее – ЯКМ), мы будем пользоваться термином «диалектная картина мира» (ДКМ), под которым подразумевается система традиционных народных представлений о мире, имеющая нечеткий характер и отраженная в совокупности территориально-социальных коммуникативных средств.
Объектом нашего исследования являются номинации погодных явлений в русских говорах Сибири и русском литературном языке, например, названия снега, дождя, ветра: зимник ‘первый снег’, падера ‘зимнее ненастье, ветер со снегом’, ливняк ‘проливной дождь’ . Под диалектным словом подразумевается такое слово, которое ограничено в своем употреблении определенной территорией, т. е. имеет изоглоссу на территории русского языка, является функциональной единицей диалектных систем, не употребляется в литературном языке или употребляется в нем как стилистически окрашенное средство [Лукьянова, 1983. С. 17]. Под словом литературного языка принято подразумевать так называемое «общерусское слово», не ограниченное в своем употреблении ни территориально, ни социально и функционирующее в разных подсистемах русского языка [Там же. С. 16].
Поскольку исследование имеет сопоставительный характер, материал представлен двумя блоками лексических единиц. Во-первых, это 573 лексемы, собранные методом сплошной выборки из «Словаря русских говоров Сибири» под редакцией А. И. Федорова [1999–2006]. Частеречный состав обнаруженных в нем диалектных номинаций погодных явлений характеризуется неоднородностью: преобладают имена существительные (бусунец, глезь, жарня, зор, калега) – 315 ед. (55 % от общего количества) и глаголы (блыскать, задеждеветь, кухтеть, набуробить) – 121 единица (21,1 %); значительно меньше имен прилагательных (заморный, лапушистый, нена-сенский, плящий, сливной) – 51 ед. (8,9 %) и наречий (марно, моркотно, оморно, сивер-но) – 25 (4,4 %); кроме того, в картотеку был включен 61 устойчивый оборот речи (вёдрая погода, дунь-трещит, клящая погода, сыпной дождь) (10,6 %). Второй блок представляют собой номинации и обороты, отобранные из «Словаря русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой в 4 томах [1999] (далее МАС). По частям речи 429 номинаций погодных явлений русского литературного языка распределены следующим образом: 134 существительных (взблеск, градинка, жарынь, предгрозье, туманность) (31,2 % от общего количества), 173 глагола (взбушевать, влажнеть, задождить, леденеть, обындеветь – 40,3 %), 87 прилагательных (вьюжный, зарничный, смурый, фирновый – 20,3 %), 28 наречий (мозгло, слякотно, тускло – 6,5 %) и 7 оборотов (льет как из ведра, разверзлись хляби небесные, сухое облако, трескучий мороз -1,6 %). Таким образом, общее количество проанализированных лексем и оборотов – 1 002 (см. таблицу).
Как видно из таблицы, количественный состав диалектных наименований погодных явлений значительнее, в нем преобладает именная лексика, и это, на наш взгляд, связано с тем, что носитель говора – житель сельской местности, для которого погодные условия определяют основные ежедневные занятия. Поэтому очень важны наименования разных нюансов погоды, которые могут
Частеречный состав лексической группы наименований погодных явлений в русских говорах Сибири и русском литературном языке
|
Часть речи |
«Словарь русских говоров Сибири» под ред. А. И. Федорова ед. (%) |
«Словарь русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой ед. (%) |
|
Существительные |
315 (55) |
134 (31,2) |
|
Прилагательные |
51 (8,9) |
87 (20,3) |
|
Глаголы |
121 (21,1) |
173 (40,3) |
|
Наречия |
25 (4,4) |
28 (6,5) |
|
Всего |
573 ед. |
429 ед. |
повлиять на урожай и возможность его сбора, обусловить последовательность действий и в целом обыденный уклад жизни человека.
Мы опирались на уже проведенные исследования, посвященные разным аспектам изучения ДКМ, в частности на работу С. М. Беляковой [2005]. Приведем особенности ДКМ, которые отмечает автор: 1) она обладает необходимым уровнем целостности и системности, но состоит из элементов, имеющих нечеткую структуру; характеризуется эклектичностью; 2) ей присущи ан-тропометризм, антропоморфность, сохранение реликтов эклектичности живой и неживой природы; 3) названными характеристиками ДКМ обусловлены такие ее черты, как метафизичность и мифологичность в представлении об окружающем мире; 4) в целом ДКМ более архаична, чем картина мира носителя литературного языка, частично это объясняется особенностями сельских коммуникаций.
Анализ собранного нами материала подтверждает некоторые из наблюдений, приведенные выше. Во-первых, это касается отсутствия системности в структуре значений полисемантов, поскольку, на наш взгляд, у некоторых лексем достаточно трудно выделить первичные и вторичные значения, они являются равнозначными. Рассмотрим существительное зазимок. 1. Первый снег. 2. Второе выпадение снега, начало зимы. 3. Заморозки. Зафиксированные в МАС два значения для существительного зазимок находятся между собой в системных отношениях: одно значение – прямое, второе – переносное. В «Словаре русских говоров Сибири» фиксируются 3 значения, установить связь между которыми не представляется возможным. Причиной тому, по нашему мнению, является утрата на определенном этапе развития языка начального, первичного значения, мотивировавшего дальнейшие, вторичные значения.
Более сложно бывает установить системные отношения между ЛСВ широкозначных полисемантов, например, морок. 1. Туча. 2. Сплошная облачность. 3. Пасмурная погода. 4. Мелкий моросящий дождь. 5. Туман. 6. Мелкий пушистый снег. В таком случае полезным окажется определение полисемии, данное Ю. Д. Апресяном: «слово
А называется многозначным, если для любых двух его значений аʲ и аʰ найдутся такие значения аʳ, аʷ, …, аʸ, что аʲ сходно с аʳ, аʳ – с аʷ, и т. д. Как видим, определение не требует, чтобы общая часть была у всех значений многозначного слова, достаточно, чтобы каждое из значений было связано хотя бы с одним другим значением» [1995. С. 187].
К сожалению, это определение мы не всегда можем использовать для описания полисемии на материале говоров, поскольку оно «работает» в случае многозначных и широкозначных полисемантов, но не подходит для двузначных полисемантов типа кить . 1. Свежевыпавший мокрый снег; 2. Сухой снег, падающий в безветренную погоду; изморок . 1. Иней. 2. Пасмурная погода. Основываясь на результатах нашей работы, можно перечислись следующие причины появления полисемии такого рода: 1) сосуществование на одной территории разных говоров и взаимодействие друг с другом языковых единиц из этих говоров, результатом чего может стать объединение в одном слове значений омонимов, исторически принадлежавших разным языковым системам; 2) полисемия как историческое явление, сохранившееся в говоре, но утраченное в литературном языке для данной ЛЕ; 3) несистемный характер образования лексических единиц и лексических значений в говоре по сравнению с литературным языком; вероятность непоследовательного установления семантики при работе с языковым материалом в полевых условиях. Мы не будем останавливаться более подробно на причинах возникновения полисемии в говорах – этому вопросу можно посвятить отдельное исследование. Продемонстрируем лишь некоторые заинтересовавшие нас языковые явления.
Так, рассмотрим лексемы куржак (1. Иней, изморозь. 2. Рыхлая, обильная снежная масса на ветвях деревьев. 3. Тонкая корка льда, покрывающая рыхлый снег. 4. Осадки в виде мокрого снега. 5. Снежная дымка при сильном морозе); и закуржить (1. безл. Завьюжить. 2. Покрыться густым инеем, изморозью). Единицы являются однокоренными, но не находятся в отношениях мотивированности. С нашей точки зрения, появление у глагола закуржить значения ‘завьюжить’ – показатель системной немо- тивированности лексических значений у единиц в системе говоров.
Используемая нами в ходе работы методика компонентного анализа позволила выделить в некоторой части отобранных ЛЕ смысловые компоненты, выражающие отношение человека к названному явлению, например, безвзяточная погода ‘длительная ненастная погода летом, когда пчелы не берут взяток’. Простое и закономерное объяснение подобному антропоцентрическому взгляду на явления окружающего мира дает Р. Замалетдинов: «человек не только воспринимает окружающую действительность, он в то же время является частью этой действительности, поэтому в языке вообще и в процессах номинации в частности находит выражение не только объективная действительность, но и место познающего и действующего субъекта в ней» [2004. С. 144].
Особенности ДКМ проявляются и в образном характере номинаций, например, мокродав , - а, м. Экспр. Долгое ненастье с проливными дождями; коровья катушка ‘гололедица’; козье ненастье ‘дождливая, ненастная погода в августе’. В некоторых случаях мы можем установить мотивацию или предположить, чем была мотивирована данная единица. Например, относительно речевого оборота козье ненастье наша гипотеза такова: единица мотивирована прилагательным козий / козья, содержащим отрицательную коннотацию ‘вредный’, ‘неприятный’. Направление мотивации оборота коровья катушка , скорее всего, имеет отношение к процессу перегона скота. Касаясь вопроса о направлении мотивации, мы не можем не отметить такие номинации в системе говора, как дуван ‘сильный ветер’; дуй-ка ‘ветер со снегом’; дуян ‘сильный ветер со снегом на открытом месте’; колотун ‘жестокий мороз, стужа’; крутень ‘вихревый ветер, вихрь, движущийся столбом’. Эти лексемы «прозрачны» с точки зрения внутренней формы, в отличие лексем, используемых литературным языком: ветер , мороз , вихрь .
Интересна образная основа мотивации глагола закуделивать ‘дуть (о сильном ветре)’. Н. А. Лукьянова отмечает первичный ЛСВ ‘завершить переработку кудели, скрутить кудель в нить’ [2003. С. 178]. Мы пола- гаем, что ассоциация строится на связи ментального образа скручивания потока ветра, образования маленьких смерчей, с визуальным образом скручивания кудели; на основании последнего строится и мотивация лексемы крутень, данной выше.
Номинация крупа ‘мелкий град’ также мотивирована сходством мелких градин с крупой. По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера [1986], лексема пагуба ‘буран’ образована от па - и губи́ ть, ги́ бель, ср. древнерусское пагоуба .
К языческим верованиям восходит номинация перун ‘громовой раскат’, поскольку в восточнославянской мифологии Перун – грозный бог, повелитель небесных явлений (грома и молний), один из главных божеств славянского пантеона, самый сильный в природе. Таким образом в лексическом значении номинации погодного явления отражается мифологичность народного сознания. Глаголы с одинаковым лексическим значением ‘намести большое количество снега’ набуробить и набуровить явно происходят от первичного значения этого глагола ‘врать’ [Там же]. Возможно, метафора базируется на одном из переносных значений глагола мести ‘болтать ерунду, врать’.
На основании данных словаря М. Фасме-ра мы установили также происхождение глагола поцыркать ‘покапать чуть-чуть (о дожде)’, образованного от олонецкого ‘течь тонкой струей’, изначально имеющего звукоподражательную основу, как и болгарское цъ́ркам ‘брызгаю’, чешское crkati ‘стрекотать, журчать, сочиться’, сrčеti ‘струиться, журчать’ и пр. Этот факт подтверждает одно из положений Н. А. Лукьяновой о звукообразах как активных когнитивных источниках номинаций [2003. С. 182].
Мы привели лишь некоторые примеры проанализированных языковых явлений и в заключение обозначим только основные особенности, которые, по нашим наблюдениям, ДКМ имеет по сравнению с картиной мира носителя русского литературного языка.
-
1. Наличие большего количества экспрессивных номинаций: баласчина , экспресс. ‘Ненастная, дождливая погода’; жаринища , экспресс. ‘Жара, зной’; жарня , экспресс. ‘Сильная жара’; коковень , экспресс. ‘Холодное зимнее время’; колотун , экспресс.
-
2. Диалектные номинации часто имеют более «прозрачную» внутреннюю форму, а также словообразовательную мотивацию по сравнению с соответствующими единицами литературного языка.
-
3. Говор располагает рядом номинаций, значение которых в литературном языке можно выразить только описательно: кить . 1. Свежевыпавший мокрый снег; 2. Сухой снег, падающий в безветренную погоду; заморить ‘подуть с Байкала (о ветре), который местные жители называют морем’. Эта особенность в большей степени присуща именам существительным, но реализуется отчасти и среди глагольных лексем.
-
4. Меньшая структурная обусловленность ЛСВ в структуре полисемантов, трудности при выделении направления мотивации и, как следствие, первичного и вторичных, мотивированных, значений.
-
5. Наличие значительного количества номинаций ветра, плохой погоды и жары при малом количестве номинаций теплой погоды, т. е. преобладание лексических единиц, так или иначе маркированных экспрессивностью, коннотацией и т. д.
-
6. В синонимические отношения в говорах вступают 93 % имен существительных от общего количества (293 ед. из 315), тогда как в литературном языке только 63 % (82 ед. из 133). Данный языковой факт связан с самим укладом жизни носителя говора. Хорошая, теплая, сухая погода подразумевает, что работа идет: можно заниматься посадками и другими работами в поле и огороде, можно косить и убирать сено, собирать ягоды и грибы, охотиться и ловить рыбу. Хорошая погода воспринимается как явление само собой разумеющееся, поскольку не препятствует никакой деятельности, тогда как пасмурная, дождливая или, наоборот, чересчур жаркая погода воспринимаются как препятствие для определенных видов работ. Эти комментарии объясняют также и то, почему в целом номинаций плохой погоды больше, чем номинаций хорошей погоды (на материале говора 32 ед. с гиперсемой ‘ненастье’ и 7 лексических еди-
- ниц с гиперсемой ‘хорошая погода’, на материале литературного языка 7 единиц с доминантой ‘ненастье’, синонимического ряда с доминантой ‘хорошая погода’ нет). Диалектный словарь не просто свидетельствует о наличии или отсутствии той или иной реалии: географические номинации и номинации погодных явлений – тот лексический пласт, который отражает картину мира носителя говора.
‘Жестокий мороз, стужа’. Экспрессивными в большей мере являются имена существительные, относящиеся к тематическим группам, называющим непогоду, мороз, жару.
Таким образом, лексико-семантическое поле погодных явлений интересно в анализе культурного плана, который транслируется при семантическом анализе лексем. В настоящее время диалекты и говоры имеют территориальное бытование в сельской местности, глубинке, где основными занятиями населения по-прежнему остаются скотоводство и земледелие. Отражение этого факта четко прослеживается в моделях погодных номинаций, и особенно в принципах номинации. В условиях, когда происходит стирание диалектных различий, утрата целых лексических пластов, использование в лексикографической практике накопленного в течение последних десятилетий материала особенно значимо, так как он содержит архаические элементы, исчезнувшие из живой народной речи.