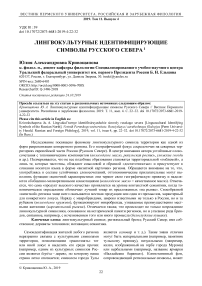Лингвокультурные идентифицирующие символы русского севера
Автор: Кривощапова Юлия Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено феномену лингвокультурного символа территории как одной из форм репрезентации конкретного региона. Его географический фокус сосредоточен на северных территориях европейской части России (Русском Севере). В центре внимания автора устойчивые словосочетания с топонимическим компонентом (вологодское масло, ракульская роспись, уломские гвозди и др.). Подчеркивается, что не все подобные образования становятся территориальной «эмблемой», а лишь те, которые частотны, обладают смысловой и образной «достаточностью» и присутствуют в сознании носителя языка в форме «визитной карточки» региона. Обращается внимание на то, что, употребляясь в составе устойчивых словосочетаний, оттопонимические прилагательные могут выполнять функцию оценочной характеристики: они теряют свою географическую привязку и наделяются обобщенно-мелиоративными коннотациями (вологодское масло = качественное масло). Отмечается, что сема «продукт высокого качества» проявляется на уровне контекстной семантики, когда топонимическое определение обозначает лучший товар из предложенных «на рынке». Своеобразной «визиткой» региона чаще всего оказывается местная продукция или один из промыслов, характерный для конкретного локуса. Наряду с макробрендами, широко известными не только в России, но и за рубежом (вологодское кружево), функционируют микробренды, узнаваемые преимущественно местными жителями (каргапольский рыжик). Отмечается также, что происходит не только возрождение линвокультурной символики, основанное на исторической памяти регионов, но и угасание ряда брендов, связанное, например, с исчезновением того или иного промысла (белослудские кушаки).
Лингвокультурный символ, региональный бренд, русский север, имя собственное, дериваты топонимов, мотивация, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/147226985
IDR: 147226985 | УДК: 81: | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-22-32
Текст научной статьи Лингвокультурные идентифицирующие символы русского севера
быть как положительным, как в случае с примерами, приведенными выше, так и отрицательным, основанным на «дурной» славе локуса, например, Екатеринбург известен как место гибели царской семьи и ассоциируется у туристов именно с этим печальным эпизодом отечественной истории. И все же с позиций маркетинга коммерчески более значимым оказывается не только узнаваемый, но и привлекательный образ территории. В последнее время мы достаточно часто наблюдаем попытки формирования или реконструкции культурных символов различных регионов России. На фоне запущенного «сверху» процесса глобализации региональные власти (реже – местные предприниматели) активно занимаются поиском или реанимацией уникальной эмблемы, которая способствовала бы формированию позитивного имиджа региона. Довольно часто культурный символ становится брендом , т. е. узнаваемой торговой маркой, подтверждающей высокое качество продукта. Главное отличие культурного бренда от бренда коммерческого заключается в том, что он не создается «с нуля», а воссоздается с опорой на уже существующие культурно-исторические традиции, характерные для того или иного региона. Ярким примером такого бренда можно считать вологодское масло 2, производство которого основано на маслоделательной традиции Вологодчины, сформировавшейся еще в XIX в.
Итак, региональный культурный символ – это одна из форм репрезентации конкретного локуса, как правило, основанных на исторической памяти жителей какой-либо территории. В качестве культурной основы символа могут выступать не только люди и события, но и традиционные ремесла и, соответственно, продукция, связанная с региональными промыслами (росписи, изделия из ткани, игрушки, прялки, сани, выпечка и проч.). Ментальной основой эмблемы в этом случае выступает знание того, что конкретный регион славится какой-то своей уникальной продукцией. Как уже было сказано выше, культурный символ может быть воплощен средствами разных знаковых систем3, однако нас будет интересовать региолектный идентифицирующий символ, отраженный в словосочетаниях с топонимическим компонентом и дериватах топонимов.
Главной составляющей регионального культурного бренда с позиций языка оказываются устойчивые словосочетания с топонимическим компонентом (в основном, это атрибутивные конструкции, реже – словообразовательные дериваты топонимов), указывающие на географические координаты производителя (вологодское кружево, тульский пряник, ижéвка ‘ружье ижев- ского оружейного завода’ (Мгеладзе, Колесников: 39), сарпúнка ‘хлопчатобумажная ткань типа ситца’ (ССРЛЯ 13: 191) и проч. Оттопонимиче-ские дериваты чаще всего образуются от названий населенных пунктов, реже – названий других географических объектов. Например, на Русском Севере, где много рек, в составе изучаемых конструкций могут встретиться и производные от гидронимов, ср. рáкульская (> р. Ракулка) или ýфтюжская (> р. Уфтюга) роспись. При этом сам топоним редко претендует на статус культурного символа, например, устаревшее наименование Белого моря Гандвик, которое в современном русском языке активно используется в собственных наименованиях, ср.: «Гандвик» – мебельный гарнитур, выпускавшийся в Архангельске в 1970–1980-е гг.; физкультурно-оздоровительный центр; ежегодный традиционный марафон в День города» (СНРР 1: 43).
Определяемым при прилагательном чаще всего оказывается обозначение товара местного производства. В книге «История водки» В. По-хлебкин приводит список типичных, специфических для какого-либо города или местности «фирменных» продуктов: «... московские калачи , московская водка , тульские или вяземские пряники , коломенская пастила , валдайские баранки , выборгские крендели и т. д.» – и отмечает, что «все эти названия целиком связаны с возникновением данного производства первоначально в определенном месте и с продолжением специализации этого места на производстве именно этого вида продукта. При этом продолжение специализации влекло за собой стремление закрепить репутацию товара и потому обязывало подымать всемерно его качество. Тем самым названия московская водка или вяземские пряники звучали уже через несколько десятилетий как гарантия высокого качества, как признание, похвала качеству» [Похлебкин 2005: 45].
Подобные конструкции уже анализировались А. Бурыкиным в статье «Курский соловей, арзамасские гуси, тамбовский волк (к истории реги-олектных идентифицирующих символов и идиоматики)». В исследовании автор прослеживает историю возникновения и идиоматизации словосочетаний с топонимическим компонентом, претендующих, по его мнению, на роль культурных символов и региональных брендов.
Вполне очевидно, что далеко не все подобные образования являются частью культурного символа: большинство из них просто указывают на место производства продукта. Необходимо сформулировать возможные критерии «брендо-вости» таких словосочетаний. При слабой их идиоматичности часть из них обладает смысловой и образной «достаточностью»: за ними чита- ется узнаваемая носителями языка «картинка», например, словосочетание тульский пряник является частью культурного бренда города Тулы наряду с небезызвестным тульским самоваром, в отличие, например, от тульского гуся. Авторы статьи «Россия и Франция: диалог стереотипов» Е. Л. Березович и Г. И. Кабакова, столкнувшись с похожей проблемой отбора материала, приводят в качестве примера сочетание французские сыры, которое не требует пояснений, рисует яркий образ, закрепленный в культурной памяти, а также подается как своеобразная национальная «пищевая эмблема», в отличие от сочетаний типа французская колбаса, французские овощи или французское молоко: они «встречаются единично, а стоящие за ними реалии не имеют, кажется, лингвострановедческого потенциала» [Березович и др. 2015: 11].
Важным оказывается параметр частотности, а также способность лексической единицы выступать основой для образования имени собственного, ср. музыкальный фестиваль «Курский соловей», магазин «Вологодское масло».
Кроме словосочетаний с топонимическим компонентом нам кажется важным привлекать неоттопонимические коллективные прозвища жителей отдельных местностей, в которых часто отражаются занятия и промыслы населения, прославившие регион. Например, прозвище волог. кушáчники (жители архангельского райцентра Красноборска) указывает на то, что село славится производством тканых кушаков (СРНГ 16: 195). Очевидно, что информация, почерпнутая из диалектных коллективных прозвищ, знакомит нас со старыми региональными символами, которые в данный момент могут быть утрачены, однако позволяет проследить историю формирования одних культурных брендов, угасания других и реинкарнацию третьих, иными словами, увидеть процесс в динамике.
Значим также любой оценочный семантический компонент, дополняющий облигаторное топонимическое значение: он может быть представлен в составе дефиниции, ср. казанское мыло ‘в прошлом – лучший сорт простого мыла’ (ССРЛЯ 5: 655), или эксплицирован в контексте: Я оторвался от окна: две стюардессы сервировали для нас шикарный завтрак: вкусный хлеб, вологодское масло, ароматно пахнущие сосиски, свежие пирожные и, конечно, черная и красная икра (Голяховский В. Русский доктор в Америке, 1984-2001) (НКРЯ). Важным признаком брендо-вости оказывается включение оттопонимиче-ских словосочетаний в своего рода аксиологические контексты, содержащие целый ряд таких конструкций, ср., например: Наибольший интерес представляют пермогорские прялки, уфтюжские туеса и белослудские кушаки, отличающиеся особой тонкостью плетения4. Помогают и особые маркеры при сочетаниях: славится, известный, знаменитый и др. Иногда на региональный бренд выводит фразеология или паремиология, ср. Вязьма в пряниках увязла (Даль ПРН 1: 429).
Итак, мы принимаем во внимание устойчивые топонимические словосочетания и дериваты топонимов, которые частотны, обладают смысловой и образной «достаточностью» и присутствуют в сознании носителя языка в форме «визитной карточки» региона. Учитываются также онимизация изучаемых конструкций и присутствие мелиоративной оценки в дефиниции или контекстной семантике. Не принимаются во внимание словосочетания, семантика которых сугубо топонимическая и равна сумме значений компонентов, ср. новосиб. барнаýльские пимы ‘валенки с вышитыми голенищами, которые валяли в Барнауле’ (СРГСиб 3: 236).
Подобные конструкции далеко не всегда фиксируются словарями (в том числе фразеологическими), поэтому мы широко используем для извлечения и верификации материала текстовый корпус – Национальный корпус русского языка (НКРЯ). Сохраняя установку на народную традицию, мы привлекаем и факты литературного языка, а также обозначения торговых марок и названия товаров, фирм, акций и проч4. Сведения исторического характера почерпнуты из Википедии – свободной энциклопедии.
Географический фокус исследования сосредоточен на северных территориях европейской части России, так называемом Русском Севере, подразумевающем территорию от междуречья Волги и Сухоны до Белого и Баренцева морей и включающем Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области, север Ленинградской области, Республику Карелия и Республику Коми. Само словосочетание Русский Север довольно часто используется при создании региональных коммерческих брендов, например, продается водка торговой марки Русский Север ; национальный парк в Вологодской области имеет то же название. Здесь мы можем говорить о макробренде, представляющем не один географический объект, а целый регион. С другой стороны, есть микробренды, имеющие локальную славу, ср. оренб. булáновская капуста , которая «качеством своим славится во всем околодке, за покупкою её приезжают из окрестных сёл вёрст за сорок» (ООС: 114) ( < с. Буланово Оренб. обл.).
Поскольку символом региона чаще всего оказывается реалия, мы приняли решение подавать соответствующий языковой материал по тематико-идеографическому принципу.
Кулинария
Масло
Первое место по узнаваемости занимает, безусловно, вологодское масло , рецепт которого был составлен Н. Верещагиным в 60-е гг. XIX в. Он же организовал сыроварни в Вологодской губернии. Состав маслодел подсмотрел на одной из Парижских выставок, поэтому и масло назвал парижским , а в других странах его называли петербургским , так как оно экспортировалось из России. До вологодского в России делали только топленое масло, которое называлось русским (подробнее об истории маслоделия см.: [Вологодское маслоделие … 2002]). Е. Авдеева, автор книг по домоводству, писала в конце XIX в.: «Все кухарки, особенно не немки и не шведки, а настоящие русские <…> необыкновенно пристрастны к употреблению русского масла , т. е. топленого, которое <…> имеет отвратительное свойство страшнейшим образом чадить и дымить» [цит. по: Сюткина и др., 2014: 76]. Русское масло встречается в диалектах, ср. волог. русское масло ‘топленое масло’ (КСГРС), и в текстах XX в.: Я с удовлетворением поглядывал на свои два громадных мешка и подсчитывал в уме запасы, сэкономленные мною из казенного пайка за счет питания у местного населения: 20 кг круп, 6 кг белой муки, литр русского масла, наконец, гусь, общий с Некрасовым (Голицын С. Записки беспогонника, 1946–1976) (НКРЯ). Иногда оно оказывается в паре с вологодским : Бескоровники не могли бы создать сорта русского масла и вологодского масла, которыми бесконкурентно был завален мировой рынок (Солоухин В. Смех за левым плечом, 1989) (НКРЯ).
Настоящее вологодское масло ценится до сих пор: Вологодское масло считается более элитным и полезным (потому и дорогое!). Но надо смотреть на производителя – иногда его делают совсем не вологодские предприятия. Фига с маслом: почти половина российских продуктов – подделка! (Комсомольская правда, 2011) (НКРЯ). Приведем еще контекст из текста С. Довлатова: Здесь продавалось вологодское масло, рижские шпроты, грузинский чай, украинская колбаса (Иностранка, 1986) (НКРЯ). В 2009 г. под Вологдой открылся музей вологодского масла.
Славилось в России и так называемое чухонское масло, которое появилось раньше, чем вологодское, экспортировалось в Россию из Прибалтики и Финляндии и было названо по пренебрежительному этнониму прибалтийско-финских народов чухна, чухонцы. Чухонское масло дольше хранилось, так как в него по финскому рецепту добавляли соль, и считалось продуктом высокого качества: Там Калинович увидел князя со всей семьей за круглым столом, на котором стоял серебряный самовар с чашками и, по английскому обыкновению, что-то вроде завтрака. Тут была и корзина с сухарями, и чухонское масло, и сыр, и бутерброды из телятины, дичи и ветчины, и даже теплое блюдо котлет (Писемский А. Тысяча душ, 1858) (НКРЯ). Русские быстро освоили рецептуру заморского белого твердого масла, которое сейчас мы знаем как сливочное: То были или подлинные чухонки или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить более доверие покупателей – ведь особенно славилось именно чухонское масло (Бенуа А. Жизнь художника, 1955) (НКРЯ). Очевидно, что со временем чухонским стали называть сливочное масло вообще – в отличие от русского топленого: Струнников не торопясь возвращается домой и для возбуждения аппетита заглядывает в встречающиеся по пути хозяйственные постройки. Зайдет на погреб – там девчонки под навесом сидят, горшки со сметаной между коленами держат, чухонское масло мутовками бьют (Салтыков-Щедрин М. Пошехонская старина. Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина, 1887–1889) (НКРЯ). В этом значении словосочетание и попало в словари литературного языка, ср. чухонское масло прост. устар. ‘сливочное масло’ (СлРЯ 4: 695). Кроме чухонского, было известно еще голштинское соленое масло из полукислых сливок (от Голштиния, исторический регион Германии). Подробнее о названиях масла см.: [Осипова 2018].
Выпечка
Одним из «выпечных» символов Архангельского края (и вообще – Русского Севера), претендующим на статус бренда, можно считать архангельскую козулю ‘изготовленные из теста запеченные фигурки’, ср. название магазина «Архангельский пряник». Первоначально козули были распространены у поморов в качестве рождественской выпечки (можно сказать, что козуля – это символ Поморья), сейчас их изготавливают в Архангельской и Мурманской областях и на Урале. Архангельская козуля считается северной разновидностью русского пряника. Приведем отрывок из рассказа Е. Замятина «Русь», в котором встречается это словосочетание: Крещенский мороз, в шубах – голубого снегового меху – деревья, на шестах полощутся флаги; балаганы, лотки, ржаные, расписные, архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на снизке, с музыкой крутится карусель (НКРЯ). Контекст позволяет увидеть, что архангельские козули здесь попада- ют в ряд русских культурных символов. В самом Архангельске «особенно красивыми и вкусными козулями» славится Соломбала – район города, который располагается на Соломбальских островах и где издавна селились моряки. Их жены, соломбалки, «слыли большими мастерицами, рукодельницами и кулинарками» (СНРР: 155). Встретилось нам и упоминание пряников из деревни Карпогоры Архангельской области: «Я купила пряников толстых, карпогорских в ведре, утром открыла – просто ведро, и не заверишь, кто взял» (АОС 15: 282). Контекст показывает, что определение карпогорские, подкрепленное прилагательным толстые, подразумевает хорошие, качественные пряники.
Заслуживает внимания выборгский крендель , известный в Выборге со второй половины XIV в. Считается, что первыми его стали печь монахи-францисканцы, основавшие в этом городе свой монастырь. В историю Выборга вошла так называемая «крендельная война», разгоревшаяся между двумя семьями финских пекарей, боровшимися за признание в качестве хранителей верного рецепта. После взятия города в 1710 г. крендель получил известность и в Петербурге. Со времен Петра I он поставлялся к императорскому двору, был угощением на ассамблеях. Приведем несколько литературных контекстов: Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного пекаря, который продает вразнос выборгские крендели (Салтыков-Щедрин М. Е. Мелочи жизни, 1886–1887) (НКРЯ); Впереди носатый булочник в картузе, с черным кругом и плетеной корзиной на голове, – тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели (Чуковская Л. Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский, 1971) (НКРЯ); Вот Гостиный двор. На лотках у пирожников выборгские крендели, сайки с изюмом, моченая морошка (Садовский Б. Пшеница и плевелы, 1936–1941) (НКРЯ). В настоящее время крендель изображен на эмблеме выборгского землячества финнов, эвакуированных с Карельского перешейка. В современном Выборге также изготовляются хлебобулочные изделия под этим названием. Уже сейчас Александр Сафонов задумался о бренде предприятия. Он считает, что это должен быть знаменитый выборгский крендель. В Финляндии удалось отыскать человека, обладающего старинным рецептом этого изделия. Поэтому марка комбината будет подтверждаться и настоящим выборгским кренделем, приготовленным в его уникальных печах (Выборгские ведомости, 2017) (НКРЯ).
В Словаре русских народных говоров встречается пск., ленингр. мурмáнский калач ‘разновидность мучного изделия’ с контекстом: Кях- тинский чай, да мурманский калач – полдничает богач. Однако нам кажется, что скорее всего имеется в виду муромский калач, прославивший город Муром, ср. ту же поговорку кяхтинский чай, да муромский калач – полдничает богач, включенную в словарь В. И. Даля (Даль 2: 76).
Продукция
Лён
Производство льна на Вологодчине имеет давнюю культурную традицию: первые свидетельства о нем встречаются в документах XIII в. Климатические условия способствовали получению здесь льноволокна высокого качества. Географическое положение Вологодского края способствовало сбыту его за границу по р. Шексне – к Балтийскому и по р. Сухоне – к Белому морям, ср. волог. сýхонский лён ‘лён, выращиваемый в Вологодской губернии’ (СРНГ 43: 19). Товарное льноводство особенно успешно развивалось в Вологодском, Кадниковском и Грязовецком уездах [Баранов 2004]. В настоящее время существует торговая марка «Вологодский лён»: производство и продажа вологодского текстиля активно продолжаются. Приведем отрывок из интервью с торговым представителем Гостиного двора в Москве. Контекст демонстрирует, что лён действительно ассоциируется с Вологдой и является ее идентификатором: – Российские регионы у вас представлены? – Конечно. Алмазы Якутии и лён Вологды, янтарь из Калининградской области и многое другое (НКРЯ). Конкуренцию вологодскому льну традиционно составляет костромской лён : Из вологодского и костромского льна делают тончайшее полотно для детской одежды и нижнего белья . Региональные разновидности льна не мешают и существованию культурного бренда русский лён , который представлен многочисленными магазинами «Русский лён» по всему миру.
Одежда
Отдельную группу составляют обозначения одежды, названные по месту изготовления. Для того чтобы выделить из них «брендовые» позиции, мы ориентировались на контексты, содержащие указания на особую ценность той или иной вещи, ср. волж. устюжáнка ‘шляпа’ – Бурлак покупает в Рыбинске, для щегольства устюжанку, низенькую поярковую шляпу с жёлтой тесьмой (СРНГ 47: 126); кубан. ленингрáдка ‘трикотажная мужская рубашка с короткими рукавами и воротником’ – Ленинградку не каждый мог купить (КубГ: 143). Говоря о старых брендах, следует помянуть прозвище жителей Крас-ноборска, ср. арх. кушáчники, жительницы которого прославились как ткачихи кушаков, полу- чивших торговое обозначение красноборские кушаки (Дилакторский 2006: 226–227). Конкуренцию им составляли шерстяные белослудские кушаки (< с. Белая Слуда, Арх. обл.): Удивительно хороши были белослудские кушаки. Почти аршинной ширины, они отличались тонкой выделкой так, что проходили через обручальное кольцо и ценились довольно высоко. В то же время они были прочными. Сроки годности горазд больше, чем у фабричных. Кушаки скупались купцами на Красноборских ярмарках и вывозились в Вятскую, Нижегородскую, Пермскую, Енисейскую, Иркутскую губернии. Жительницы города Тотьмы славились вязанием чулок и носков, ср. прозвище тотьмянок чулóчницы (Дилак-торский 2006: 560).
Грибы
Любопытно существование такого локального микробренда, как каргопóльский рыжик, – речь идет об особенном сорте грибов-рыжиков кирпичного цвета, которые встречаются на территории Каргополья, реже – в Архангельской области: Каргопольский рыжик очень ценится, попадает редко у нас, больше в Каргополье (КСГРС); А гость, отведав рыжиков, помотал от удовольствия головой, придвинул тарелку к самому носу и набросился на каргопольское лесное диво. И после мясного, рыбного, медовых пряников да масленых колобов пошли у него без задержки в утробу и рыжики (Богданов Е. Вьюга, 1972) (НКРЯ). Ср. еще арх. пúтерский гриб ‘белый’ – Сейгод много дождей, так питерской гриб будет; питерской гриб – белый гриб, не знаю, почему так называется (СРГК 4: 521); арх. москóвский гриб ‘боровик’ (КСГРС). Этот случай интересен тем, что оттопонимическое прилагательное в составе словосочетания лишено геоло-кационного компонента значения: питерский здесь понимается как столичный = качественный , редкий , дорогой 5. Ср. еще волог. груздь на всю Русь ‘здоровый, сильный человек’ – Всё ха-ханькал, а топерь уж какой задался груздь на всю Русь (СГРС 4: 57).
Животные
Символом севернорусского животноводства следует признать знаменитую холмогóрку, породу крупного рогатого скота, выведенную в Холмогорах. Холмогорские коровы считались лучшими в России: они были крупными, устойчивыми к болезням и хорошо доились. Ср. литературный контекст: «Да ведь корова-то холмогорка лучшей породы, – она всхлипнула, – в день больше ведра молока давала, и такую корову на убой, на падаль!» (Гагарин Е. Корова («Юность»), 2002) (НКРЯ). С холмогорками сравниваются в народ- ной речи дородную, породистую, грудастую женщину, ср. как холмогóрская корóва (БСНС: 290); В отца вся вышла Марфа Ивановна – рослая, полная, как холмогорская тёлка (Мамин-Сибиряк Д. Золотая ночь, 1884) (ССРЛЯ 17: 334).
Художественные промыслы
Кружево
Широко прославилось вологодское кружево . Приведем типичный контекст, в котором перечисляются «брендовые» товары купеческой лавки: У Караваева были собраны товары со всей страны – табаки из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иванова-Вознесенска (Паустовский К. Книга о жизни. Далекие годы, 1946) (НКРЯ). Вологодские кружева попадают и в состав образного сравнения, что является показателем устойчивости словосочетания: Деньги из деревянных стали ажурными, как вологодские кружева (НКРЯ). Предполагают, что кружева попали в Вологду через Белое море, Северную Двину и Сухону вместе с товарами, завезенными из Западной Европы, примерно в XVI в. При Петре I мастериц кружевоплетения начали выписывать в Россию из-за границы. К концу XVIII в. сформировались художественные особенности центров русского кружевоплетения: Галич, Ростов, Вологда, Балахна, Калязин, Торжок, Рязань. Во второй половине XIX в. кружевоплетение быстро распространилось в центральных уездах Вологодской губернии: в Грязовецком, Кадни-ковском и Вологодском. Готовая продукция через скупщиков попадала в Москву и Петербург. В столичных магазинах вологодские кружева высоко ценились. В 1920 г. была основана кустарно-промысловая секция Северсоюза и кружевниц объединили в артели. В 1876 г. вологодские кружева получили высокую оценку на международной выставке в Филадельфии. Высшая награда, Гран-При, была им присуждена на Парижской выставке в 1937 г. [Баранов 2004]. Сегодня центром кружевоплетения в Вологодской области является фирма «Снежинка», которая и поддерживает торговую марку «Вологодское кружево». Такое же название присвоено молочной продукции: Пакет пастеризованного молока «Вологодское кружево» (НКРЯ) – и поезду: Мне предстояло сесть в скорый поезд «Вологодские кружева» [там же]. Здесь же следует упомянуть довольно известный вид узора для вышивки во-логóдское стекло – Выдернут ниточки вдоль и поперёк, вышьют узор простыми нитками и называют вологодское стекло ; Вологодскими стёклами полотенца вышивали, а подзоры другим узором (СГРС 2: 152) .
Резьба по бересте
В деревнях, расположенных по берегам Ше-моксы, притока Северной Двины, еще в XVIII в. крестьяне научились искусству сквозной прорези и тиснения по бересте. Высоким мастерством резьбы славилась шемогодская деревня Курово-Наволок. Со временем этот вид мастерства превратился в промысел и стал называться шемо-гóдской резьбой . В 1918 г. резчики из деревни Курово-Наволок объединились в кооперативную артель (в 1935 переименована в артель «Художник»). В военные и послевоенные годы существовал цех резьбы при «Шемогодском мебельном комбинате». В 1964 г. производство сочли экономически невыгодным, обе артели прекратили работу, мастера были уволены. Потребовались большие усилия, чтобы шемогóдская резьба была вновь восстановлена. Это произошло в 1967 г., когда при «Кузинском механическом заводе» был создан цех по изготовлению шкатулок, туесов и других изделий, украшенных прорезной берестой. После неудачных «новаций» 1950–1960-х гг. промысел вновь начал активно развиваться. В 1981 г. создается художественнопроизводственный комбинат «Великоустюжские узоры», продолжающий традиции ажурной берестяной вязи.
Роспись
Мезенский регион (низовья реки Мезени в Архангельской области) известен мезéнской росписью по дереву. Она же называется палащéль-ская – по деревне Палащелье Лешуконского района Архангельской области. Это довольно поздний тип росписи домашней утвари – прялок, ковшей, коробов и проч., сложившийся к концу XIX в. Изделия густо испещрены дробным узором – звездами, крестиками, черточками, выполненными в двух цветах: черном и красном. Основные мотивы геометрического орнамента – диски, ромбы, кресты. Среди рисунков – стилизованные схематичные изображения коней и оленей. Часто подобным образом расписывали деревянные прялки, которые назывались мезехами: Рогатое мотовило, кросна – домашний ткацкий станок, расписная прялка-мезеха (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетеные, из сосновой дранки, из бересты и корья, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашеные чашки … (Барашков В. А как у вас говорят? 1986) (НКРЯ). К началу XX в. промысел практически угас, однако в середине 1960-х гг. мезéнская роспись была возрождена потомками старых па-лащельских мастеров в деревне Палащелье и в селе Селище. Сейчас в Архангельске на экспериментальном предприятии «Беломорские узоры» выпускаются сувенирные изделия с современной городской росписью, имитирующей традиционную крестьянскую мезéнскую роспись.
К росписи так называемого северодвинского типа относятся рáкульская , пермогóрская и ýфтюжская . Первая получила название от р. Ракулки (приток Северной Двины), вторая – по селу Пермогорье, третья связана с рекой Уфтю-гой и селом Верхняя Уфтюга, в окрестностях которого процветал промысел. Все эти варианты росписи зародились на территории Красноборского района Архангельской области: Красноборская земля – Родина самобытных крестьянских росписей Уфтюги, Пермогорья и Ракулки, уходящих корнями в XVIII век и рассказывающих о духовной культуре русского человека. Наибольший интерес представляют пермогорские прялки, уфтюжские туеса и белослудские кушаки, отличающиеся особой тонкостью плетения. Не менее известны онéжская (< р. Онега), пúжемская (< р. Пижма, приток р. Печоры) и шéнкурская (< г. Шенкурск) роспись по дереву. Один из наиболее ярких типов вологодской росписи по дереву – знаменитая «огненная» шекс-нúнская золочёнка (< р. Шексна), которая «является одной из традиционных росписей Русского Севера. Она украшала крестьянские предметы быта и была распространена на небольшой территории – в южной части Шекснинского района Вологодской области. Местные жители называли роспись золочёнкой ».
Вологодская ( усольская ) финифть – традиционная роспись по белой эмали. Промысел возник в XVI в. в Сольвычегодске. Позже подобной финифтью стали заниматься и в Вологде. Изначально главным мотивом были растительные композиции, нанесенные красками на медную основу: цветочные орнаменты, птицы, звери, в том числе мифологические. Однако в начале XVIII в. стала популярна однотонная финифть (белая, синяя и зеленая). Только в 1970-е гг. XX в. началось возрождение «усольской» многоцветной финифти вологодскими художниками. Производство продолжается и сейчас. Приведем контекст, где встречается это словосочетание: Появляется красочная хохломская деревянная посуда, «усольска финифть» с её яркими чистыми цветами эмали украшала посуду (Еремеева С. Лекции по русскому искусству, 2000) (НКРЯ).
Глиняные изделия
В деревнях, которые находились на территории Каргопольского уезда (сегодня это Каргопольский район Архангельской области), издревле занимались созданием гончарных предметов обихода. Из глиняных отходов создавали разные поделки – так появилась знаменитая каргопóльская игрушка, которая представляет собой фигурки в виде собак, медведей, сказочных героев и проч. Несмотря на такое широкое разнообразие форм, старинная глиняная игрушка не обладала яркой расцветкой, так как в качестве красок использовали мел, сажу и цветную глину. Современная вещица уже отличается более яркими оттенками. Красный, синий, зеленый, белый, черный цвета и охра являются самыми популярными оттенками для разрисовывания изделий. Эти цвета и элементы росписи: кресты, круги, кольца и растительные мотивы – ассоциируются с каргопóльской росписью и каргопóльской вышивкой. Приведем пример контекста, в котором каргопóльская игрушка упоминается в ряду других игрушечных промыслов: Больше тысячи экспонатов представляют двадцать игрушечных промыслов России: филимоновская игрушка из Тульской области, каргопольская из Архангельска, дымка из Кировской и многие другие (Бурмистрова Т. Детский сад («Известия»), 2002), (НКРЯ).
Жители Куростровского селения, которое находится недалеко от Холмогор и где родился М. В. Ломоносов, занимались гончарным ремеслом, однако уже в XIX в. промысел пришел в упадок: от него сохранилась только поговорка: горшки-то ведь не боги, а те же Курострóва обваривают (Грандилевский: 185).
Кованые и ювелирные изделия
Железоделательным и кузнечным ремеслом прославилась Улома, село в Череповецком районе Вологодской области, ср. Улома железная, а люди каменные ‘о тяжелой работе и выносливости кузнецов’ [СУЧГ: 89]. Более всего были знамениты ýломские гвозди , которые покупались нарасхват, до появления машинных гвоздей [там же]. К началу XX в. промысел пришел в упадок, однако еще в первой половине XIX в. уломское ремесленное производство было способно на всероссийском рынке конкурировать с промышленной сталью: «Уломский уклад (как называли у нас выплавленное железо) по-прежнему имел широкий спрос у кузнецов России. Да и в самой Уломе кузнечное дело процветало: за жителями Уломы прочно закрепилось прозвище уломские гвозди» [Брагин 1995].
Ювелирными изделиями (в основном, черненым серебром) прославился Великий Устюг: жителей Великоустюгского уезда прозвали черно-серéбренники (Дилакторский 2006: 555).
Архитектура
Возрожденным культурным символом Тотьмы (центр Тотемского района Вологодской области) следует считать знаменитые тотемские картуши – уникальные архитектурные элементы тотемского барокко, которыми украшены го- родские храмы. Эти орнаменты были необычны для русской архитектуры XVIII в., и специалисты назвали их словом картуш (фр. cartouche ‘сверток’). Тотемские картуши отличаются от обычных (лепных, резных или рисованных). Они представляют собой внешний элемент убранства храмов – часть кладки стены, как правило, выступающую на треть кирпича и обрамленную валиком кирпичного набора. На внутренних полях картушей – звезды, цветы, трилистники, кресты и раковины. Предполагается, что эти барочные элементы были «завезены» в Тотьму купцами-мореходами, которые ходили в экспедиции за пушниной на Алеутские острова и осваивали Русскую Америку. Местные архитекторы творчески переосмыслили западноевропейские идеи, поэтому исследователи говорят об особом региональном тотемском барокко.
В настоящее время картуши являются своеобразной визитной карточкой тотемской архитектуры. В феврале 2017 г. в Вологде состоялась презентация издания альбома-путеводителя «По следам тотемского барокко». Приведем отрывок из интервью с директором Тотемского музейного объединения А. Новоселова: «Предыстория этого проекта – проходивший в 2013 году конкурс “Россия–10”, организованный Русским географическим обществом и телеканалом “Россия–1”. Одним из номинантов от Вологодской области были тотемские картуши. Конкурс имел большой общероссийский резонанс, но для нас настоящим открытием оказалось то, как тотьми-чи сплотились вокруг этой идеи. Мы все поверили, что живем в уникальном городе, историей которого можем гордиться. В итоге тотемские картуши оказались самой популярной вологодской достопримечательностью, вышли в третий тур конкурса и заняли 20-е место среди 800 объектов со всей страны. Картуши – визитная карточка Тотьмы: эмблемы многих предприятий и учреждений города выполнены в стиле этих архитектурных орнаментов» [Гришина 2017].
Список литературы Лингвокультурные идентифицирующие символы русского севера
- Баранов С. Ю. Культура Вологодского края: рукоделия и ремесла. Вологда: ВИРО, 2004. 160 с.
- Березович Е. Л., Кабакова Г. И. Россия и Франция: диалог языковых стереотипов // Антропологический форум. 2015. № 27. С. 9-69.
- Березович Е. Л., Кривощапова Ю. А. Образ Москвы в зеркале русского и иностранных языков. "География" Москвы // Quaestio Rossica. 2014. № 3. С. 159-183.
- Брагин А. Е. На Шексне у заветного камня URL: https://www.cpv.ru/modules/myhistory/item.-php?itemid=82 (дата обращения: 20.10.2019).
- Бурыкин А. А. Курский соловей, арзамасские гуси, тамбовский волк (к истории региолектных идентифицирующих символов и идиоматики) // Диалектная лексика. 2016. С. 66-88.
- Вологодское маслоделие: история развития / Г. В. Твердохлеб, В. О. Шемякин, Г. Ю. Сажинов, П. В. Никифоров. СПб.: СПБГУНиПТ, 2002. 245 с.
- Гришина С. В мир тотемского барокко - с путеводителем.URL: http://cultinfo.ru/news/2017/2/in-the-world-of-totma-baroque-with-guide (дата обращения: 20.10.2019).
- Зайцев С. М. Тотемское барокко // Русская Америка. Вологда, 1994. № 1. С. 18-20.
- Осипова К. В. Этнолингвистическое изучение народных традиций, связанных с пищей (на примере русских и инославянских культурно-языковых данных) // Славянское языкознание: XVI Междунар. съезд славистов / Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук, Национальный комитет славистов РФ. 2018. С. 436-452.
- Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006. 416 с.
- Петров Н. В. "Фольклорный брендинг" российских территорий // Воображаемая территория: от локальной идентичности до бренда / сост. М. В. Ахметова, Н. В. Петров; авт. предисл. Н. В. Петров, М. В. Ахметова, М. И. Байдуж. М.: Неолит, 2018. 224 с.
- Похлебкин В. В. История водки. М.: Центрполиграф, 2005. 160 с.
- Сюткина О. А., Сюткин П. П. Непридуманная история русских продуктов М.: АСТ, 2014. 432 с.