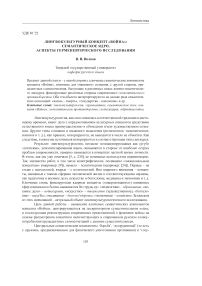Лингвокультурный концепт "война": семантическое ядро, аспекты герменевтического исследования
Автор: Волков Валерий Вячеславович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предмет данной статьи – с одной стороны, ключевые семантические компоненты концепта «Война», значимые для «наивного» сознания, с другой стороны, прецедентные словосочетания, бытующие в различных видах военно-политического дискурса, фиксирующие различные стороны современного геополитического противоборства. Оба эти объекта интерпретируются на основе ряда семантических оппозиций: «жизнь – смерть», «государство – население» и др.
Лингвокультурология, герменевтика, семантическое поле, концепт "война", геополитическое противоборство, глобализация, гибридная война
Короткий адрес: https://sciup.org/146121966
IDR: 146121966 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Лингвокультурный концепт "война": семантическое ядро, аспекты герменевтического исследования
Лингвокультурология, как она сложилась в отечественной традиции к настоящему времени, имеет дело с опредмечиванием культурных концептов средствами естественного языка преимущественно в обиходном и/или художественном сознании. Другие типы сознания и языкового мышления (религиозное, экономическое, военное и т. д.), как правило, игнорируются, не выводятся в число ее объектов. Как следствие, в качестве источников игнорируются и соответствующие типы дискурса.
Результат: лингвокультурология, негласно позиционирующаяся как сугубо «штатская», деполитизированная наука, оказывается в стороне от наиболее острых проблем современности, камерно замыкается в концептах частной жизни личности. В итоге, как мы уже отмечали [5, с. 230], ее потенциал используется неравномерно. Так, множество работ, в том числе монографических, посвящено «эмоциональным концептам» (например: [9]), немало – политическим (например: [24]). Первые – на стыке с психологией, вторые – с политологией. Вне широкого внимания – концепты, связанные с такими сферами человеческой жизни и соответствующими науками, как педагогика и военное дело, искусство и богословие, медицина и экономика и т. д. Ключевые слова, фиксирующие ядерные концепты («макроконцепты») названных сфер социального бытия, выявляются без труда, ср.: «педагогика» – образование , «военное дело» – война / армия , «искусство» – творчество (художественное), «богословие» – вера/Бог , «медицина» – болезнь / здоровье , «экономика» – хозяйство . За каждым из этих именований – актуальный объект лингвокультурологического исследования.
Цель данной работы – выявление ключевых семантических компонентов концепта «Война», центрирующегося на дескрипторном существительном война , и последующая реконструкция современных представлений о феномене войны на основе рассмотрения семантики наличествующих в современном русском словоупотреблении прецедентных словосочетаний с данным существительным.
Центральные семантические компоненты ‘борьба’, ‘вооруженный’ (то есть с оружием, предназначенным для физического уничтожения противника) и ‘госу- дарства / народы’ фиксированы в академическом словарном толковании сущ. война: «Вооруженная борьба между государствами, народами, племенами и т. п.» [17, с. 145]. Сразу подчеркнём, что эта «борьба» в современных геополитических условиях выступает, с одной стороны, как обычная многовековая борьба (в том числе вооруженная) за доминирование / независимость, но, с другой стороны, с тем специфическим актуализирующим уточнением, что современная война как общемировое явление (как геополитическое противоборство) включает компонент «вооруженная» не в значении решающего средства, обеспечивающего возможность доминирования / независимости, но лишь в качестве необходимого составляющего элемента в ряду других.
Война – явление многоплановое. Это не только «вооруженная борьба между государствами, народами, племенами и т. п.», но и – во вторичном, более общем значении – «борьба за достижение своих целей средствами воздействия на кого-, что-л.» [Там же]. Оба значения центрируются на пресуппозитивных (подразумеваемых) семах ‘противоречие’, ‘противоборство’ (хороший, выразительный синоним – распря ); вторичные метафорические смыслы войны соотносятся с самыми разнообразными ситуациями: например, острых семейных, корпоративных, экономических, идеологических противоречий, с ситуациями борьбы разной степени остроты за политическую власть в какой-либо организации, партии или стране, в уличной компании или бизнес-структуре и т. д., вплоть до борьбы человека с самим собой. В любом случае распря движима, с одной стороны, целью добиться главенства и подчинения (власти, доминирования), с другой стороны, сохранить независимость, право распоряжаться собой, в том числе своей страной во всех составляющих ее жизни, по собственному усмотрению.
Война – феномен парадоксальный: сохранение жизнеспособности любого организма, в том числе государственного, требует мира и покоя , – но мир и покой возможны лишь при условии напряжения сил и потому недостижимы вне распри , обеспечивающей нужное напряжение. Отсюда неизбежность, неизбывность и необходимость войны, что ясно понимали еще в античности. «Всё происходит через распрю», – говорил Гераклит. Еще он же: «Должно знать, что война общепринята, что вражда – обычный порядок вещей, и что все возникает через вражду…» [23, с. 200–201]; «Гомер, молясь о том, чтобы “вражда сгинула меж богами и меж людьми”, сам того не ведая, накликает проклятье на рождение всех [существ]», ибо они рождаются в силу противоборства и противодействия [Там же, с. 202]. Александр Межиров, из «поколения лейтенантов» Великой Отечественной, выражал ту же самую мысль современным поэтическим языком (цит. по: [14]):
О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она – Тот же мир, и едина основа, И природа явлений одна.
Всех в обойму военную втисни, Остриги под гребёнку одну!
Мы писали о жизни… о жизни,
Не делимой на мир и войну.
Советских людей воспитывали под лозунгом «Миру – мир!», старательно убеждали, что «мир во всем мире» возможен, что все народы могут жить в дружбе и согласии. Одна из многочисленных иллюзий, которыми нас питали в нашем советском прошлом. Войны всегда были и всегда будут, надежды на всеобщий мир утопичны. Н. А. Бердяев писал: «Война – одна из самых благородных, хотя и ужасных форм борьбы. Война – антиномична по своей природе, она есть осуществленное противоречие. Во имя жизни ведется война, и служит она полноте жизни. И война сеет смерть» [1, с. 218].
Актуальность специального лингвокультурологического исследования концепта «Война» следует усматривать, на наш взгляд, не столько в непреходящей значимости самого данного феномена, постоянно меняющегося, но в своих основах неизменного, сколько в радикальных переменах в его содержании.
Идет ли уже сейчас очередная мировая война? Ответ получается утвердительным, если учесть, что многообразие современных « вооруженных » войн, инициируемых преимущественно США с привлечением других стран Запада и различных террористических группировок, сочетается с многообразием других форм агрессивного геополитического противоборства (см., например: [8]), нацеленного со стороны государств «золотого миллиарда» на безусловное глобальное доминирование в самых разных областях жизни. Геополитическое противоборство – не прямой синоним, а симиляр – квазисиноним войны , «синонимоподобное» ей терминологическое словосочетание, выступающая как эвфемизм – «благоречие», деликатно затушевывающее драматизм ситуации.
В чем специфика современной мировой войны? Логика лингвокультурологического исследования требует найти по возможности однословное именование, компактно фиксирующее ее цели, формы и методы.
По целям такое именование целесообразно усматривать в лексемах глобализм / глобализация , включающих целевую сему «мировое господство» (ср. академическое словарное толкование глобализации : «Внешняя политика государства, заключающаяся в навязывании своей воли другим странам, в установлении мирового господства» [22, с. 248], – с тем необходимым дополнением, что глобализация – это не только политическое, но и экономическое, культурное и т. д. явление, нацеленное на подчинение всей жизни всех стран некоему единому мировому центру господства), по специфике проявления – в удачном окказионализме мировойна («войно-мир»), фиксирующем антиномичную соединенность состояний мира и войны [15]. Еще в 1985 году С. Лем в научно-фантастическом сатирико-философском романе «Мир на Земле», характеризуя умирающую «некро»-цивилизацию будущего, предсказывал: «На смену альтернативе “война и мир” пришло состояние войны, неотличимой от мира, и мира, неотличимого от войны» [12]. Сбылось «не совсем по Лему»: без освоения Луны и межзвездных полетов, но по сущности точно.
Многообразие форм и методов современной мировой войны, когда войны всех типов соединяются в одну «гипервойну», фиксируется в именовании гибридная война – особая военная стратегия, в рамках которой соединяются «обычная» война с использованием средств физического уничтожения, – и множество других способов подавления / подчинения , а возможно – истребления, уничтожения противника , более изощренных, чем огневая мощь (см., например: [6]). Это «всеоружие войны во всех сферах и уровнях бытия человека и общества» [11, с. 198], органичное совмещение летальных и нелетальных средств уничтожения противника.
В результате лексико-семантическое ядро, лингвистически опредмечивающее концепт «Война», утрачивает, как справедливо отмечают современные исследователи, прямые корреляции с поддающимся наглядной привязке (например, ви- зуализации) «предметным денотатом» [16, с. 198], поскольку охватывает все сферы жизни народов и государств.
Лингвокультурологический подход к проблеме, основывающийся на специфических лингвистических упрощениях и «прямолинейностях», предполагает на начальном этапе исследования простое «коллекционирование» бытующих в различных видах дискурса словосочетаний, фиксирующих многоликость современной войны («мировойны», геополитического противоборства ). Назовем некоторые представляющиеся наиболее существенными в виде простого алфавитного перечня (с минимальными тематическими «укрупнениями» и пояснениями):
-
– археологическая / историческая (непризнание официальной наукой и/или уничтожение древнейших археологических артефактов, «переписывание» истории с целью привести ее в соответствие с чьими-либо идеологическими установками);
-
– атомная / ядерная;
-
– бактериологическая;
-
– генетическая;
-
– демографическая (фактически современный «мягкий» геноцид, связанный с установками на сокращение населения Земли в целом, или на сокращение численности отдельных народов, или на их полную ассимиляцию в рамках процессов глобализации);
-
– идеологическая (война мировоззренческих / философских систем);
-
– информационная / информационно-психологическая / сетевая («война символов и смыслов»), в том числе медиавойны;
-
– кибернетическая / сетецентрическая (война Больших Данных / средств разведки, связи и управления);
-
– климатическая, нацеленная на извлечение односторонних преимуществ в результате искусственных воздействий на климат;
-
– культурная война, или война культур, которая ведется, с одной стороны, с целью нивелировать культурные различия между народами и превратить тем самым население Земли в «глобальную деревню» (метафора Интернета), с другой стороны, с целью сохранить свою национально-культурную специфику;
-
– психологическая / аксиологическая / ментальная / поведенческая, нацеленная на формирование личностных установок принять агрессора как «освободителя» / носителя прогресса либо бессознательно действовать под его скрытым управлением в его интересах;
-
– религиозная (в особенности агрессивный атеизм, дарвинизм и другие формы секулярного неоязычества, распространяющие христианофобию, исламофобию и иные формы информационно-психологической войны против традиционных религий);
-
– тектоническая, нацеленная на провоцирование геологических катастроф с целью разрушения территории противника;
-
– террористическая / диверсионно-террористическая;
-
– фармацевтическая;
-
– химическая;
-
– экологическая, нацеленная на достижение односторонних экологических преимуществ;
-
– экономическая, в том числе банковская / финансовая / продовольственная / рыбная; и др.
Все названные (и оставшиеся за пределами данного списка) виды войн, которые иногда предлагают, наряду с понятием «гибридная война», объединять также характеризующим понятием «цивилизационная война» [20], – поскольку они именно войны , связаны между собой оппозитивными ключевыми смыслами ‘доминирование’ / ‘независимость’, создают многочисленные и исключительно разнообразные переплетения конкретных, частных целей и средств, так что в комбинаторном итоге получается список, практически не поддающийся обозрению.
Следовательно, необходимы герменевтические процедуры, основывающиеся на использовании ряда понятийных категорий, задаваемых семантически изоморфными концепту «Война» оппозитивными парами лексем / словосочетаний.
Целевые (телеологические) оппозиции.
Основные понятийно-герменевтические категории для выявления семантической основы концепта «Война» – это, с одной стороны, субъект и объект , с другой – причина , цель и средство , фиксирующиеся в «школьных» вопросах грамматического разбора кто и что , далее в почему , зачем и как . Герменевтическая обозримость многоликости современной цивилизационной гибридной войны достигается прежде всего за счет наложения на приведенный список видов современной «миро-войны» целевых (телеологических) параметров, каузирующих поиск компактных, по возможности однословных ответов на вопрос: зачем, с какой целью инициируются Западом различные виды войн?
Главных целей («макроцелей») современного мирового агрессора – две, они могут быть отображены в виде оппозитивных квазисинонимических рядов: 1) цель агрессора по отношению к себе (к собственным интересам): доминирование, главенство, господство и т. п., вплоть до радикально суммирующей дескрипторной лексемы жизнь ; 2) цель агрессора по отношению к объекту / объектам агрессии (к собственным интересам агрессора): подавление, подчинение и т. п., вплоть до радикально суммирующих дескрипторных лексем уничтожение, смерть .
«Макроцели» объекта / объектов агрессии (то есть «всего остального», незападного мира) фиксируются в полевой лексико-семантической структуре с доминантными (дескрипторными) глаголами оборонять / обороняться , защищать / защищаться / защититься , основывающейся на квазисинонимическом ряде дескрипторных существительных оборона, защита, независимость и т. п., вплоть до радикально суммирующей дескрипторной лексемы жизнь – антонима смерти .
Как видим из приведенных квазисинонимических рядов, лингвистически опредмечивающих цели агрессора / объектов агрессии, в семантической основе концепта «Война» – пересечение с концептами «Жизнь» и «Смерть»; область пересечения задается целевыми дескрипторами «подчинение» / «независимость». Составы этих двух антиномичных, «переливающихся» один в другой концептов, строящихся на комплементарной языковой антонимии живой – мертвый (привативная оппозиция: мертвый = «неживой»), для агрессора и обороняющегося являются полярными. Заметим, что это общее суждение о полярной противоположности интересов агрессора / объектов агрессии хорошо соотносится с выводами эмпирического исследования, нацеленного на сопоставление англоязычной и русской лингвокультур: «Важнейшие этнокультурные отличия в ценностном осмыслении войны таковы: для англоязычной лингвокультуры на первое место выходит идея успеха в войне и эффективности ее ведения, для русской лингвокультуры – идея справедливой войны как защиты от нападения и неизбежность жертв на войне» [10, с. 5].
В качестве «эвфемистического прикрытия» своих целей агрессор использует словосочетания национальные интересы, национальная безопасность, выступа- ющие в его дискурсах как симулякры – с логико-лингвистической точки зрения, «пустые понятия», с коммуникологической точки зрения – манипулятивные средства, которые наполняются произвольными содержаниями, камуфлирующими истинные цели доминирования / подавления (то есть, в лингвокультурологической интерпретации, цели собственной жизни за счет чужой смерти). Например, документ под названием «Стратегия национальной безопасности США», принятый в Вашингтоне в феврале 2015 года, – это именно стратегия мирового доминирования (русский перевод размещен в свободном доступе в системе Интернет, см. также: [21]).
Словосочетания национальные интересы, национальная безопасность в дискурсах объектов агрессии выступают не как симулякры, а как реальные понятия, содержания которых в ядерной части однозначно интерпретируются семой ‘независимость’; Военная доктрина Российской Федерации строится на принципиально неагрессивной позиции, ср.: «В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера» [3].
Оппозиция «жизнь / независимость – смерть / подчинение» – главная и в «суммирующем» прочтении единственная целевая оппозиция, которая фиксирует, с одной стороны, основную задачу агрессора, с другой – обороняющегося. Для агрессора жизнь ассоциируется с подчинением (возможно, «умерщвлением») объекта / объектов агрессии, но не с собственной смертью; для объекта / объектов агрессии подчинение ассоциируется со смертью, жизнь – с независимостью. В предельно обобщенной формулировке, соответственно, война – это борьба за жизнь (свою) и смерть (чужую), – имеется в виду прежде всего физическая, «биологическая» смерть противника. В полном объеме данная оппозиция актуальна для объекта агрессии, но не для агрессора, который «не думает» о возможности своей «смерти» как потере собственной независимости и подчинении, а также о своей физической гибели.
Оппозиция «государство – граждане (люди, население)» фиксирует два типа объектов агрессии, которые в сочетании с компонентом «агрессор» образуют тернарную фреймовую структуру векторного типа. Агрессия может быть направлена на названные объекты в разной целевой последовательности: 1) «умерщвление» / подчинение государства, далее, как следствие, «умерщвление» / подчинение населения; 2) «умерщвление» / подчинение населения, далее, как следствие, «умерщвление» / подчинение государства.
Специфика современной гибридной цивилизационной войны – в наложении, одновременной актуализации обеих векторных последовательностей.
«Обычная» война строится в логике «против государства (прежде всего против политической и экономической его независимости), а значит – и против людей». Базовая цель – государство, его независимость. Ожидаемый результат – подчинение либо уничтожение государства и, как следствие, подчинение его граждан другому государству (победителю).
Современная гибридная цивилизационная война, что особенно наглядно в ее информационно-психологической составляющей, изначально ведется против людей (антропоцид, буквально «пожирание людей»), разрушение / подчинение государства оказывается следствием разрушения / подавления / подчинения умов и душ системе ценностей и целей агрессора (средствами информационно-психологической, культурной, религиозной войн), в параллель с этим – и физическое уничтожение (искусственная депопуляция) населения нелетальными средствами (в част- ности, средствами генетической и демографической войны, пропагандой гедонизма и сексуальных перверзий).
Целевое своеобразие этой стратегии – уничтожение объектом агрессии себя (своей независимости) собственными руками; в основе конкретных методов агрессора, по формулировке «Военной доктрины Российской Федерации» (раздел «Основные внутренние военные опасности»), – «…деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества» [Там же]. Внешний враг оказывается «внутри» самого подвергающегося агрессии человека / общества / государства, поле боевых действий – система ценностей и сознание объекта / объектов агрессии в целом. Объект агрессии (отдельный человек, различные социальные группы) не замечает, что оказывается врагом самого себя, далее – собственного государства.
Оппозиция «обыденное (гражданское) – профессиональное (профессионально-военное и профессионально-политическое)» связана прежде всего с традиционным для культуры противопоставлением «военных» – «гражданским», «штатским» (или, как говорили в старину, «статским»), основывающимся на разном восприятии (и далее – на разном понимании, интерпретации) ими феномена войны. Дальнейшие противопоставления обыденного (обиходного, «наивного») и профессионального связаны с разграничениями внутри последнего профессионального военного, философского, экономического, политического и т. д. восприятия / знания / оценок / практических решений и проч., содержание которых в лингвокультуроло-гии рассматривается сквозь призму их опредмеченности средствами естественного языка (эта обширная задача, разумеется, выходит за пределы данной статьи).
С обыденным и профессиональным аспектами восприятия, понимания, интерпретации концепта «Война» соотносятся различные типы основных источников исследования. Лингвокультурология, как правило, ограничивается обиходными, публицистическими и художественными текстами; в случае концепта «Война» представляется необходимым привлечение сведений / текстов из различных областей научного и конкретно-практического знания (прежде всего военного дела), которых академическая филология чаще всего «не замечает».
Семантическое ядро обыденных представлений о войне отражено в данных массового ассоциативного эксперимента, фиксированных в словарной статье «Война» «Русского ассоциативного словаря». Воспроизведем начальный фрагмент (ассоциаты с частотой 4 и выше): « ВОЙНА: мир 92; миров 51 ; и мир 41; смерть 28 ; Отечественная 18 ; страшная 17 ; ужас 14 ; мировая 13 ; жестокая 12 ; горе, народная 9 ; кровь, страх 7 ; атомная, гражданская, разрушительная 6 ; взрыв, дым, народов, священная, справедливая, страшно, ужасная 5 ; битва, была, великая, гибель, идей, идет, кончилась, кровавая, не нужна, плохо, ядерная 4 » [19, с. 104].
Вывод: война, по данным ассоциативного эксперимента, воспринимается «наивным» сознанием прежде всего как оппозит миру, как страшное и давнее. Интерпретация: «закрытость» информантов от спокойного осознания реальности современной войны, ее всеохватности, непрерывности и неизбежности, когда мир – лишь фон войны (кстати заметим: едва ли случайно в названии романа Толстого слово война – на первом месте).
Материалы цитированной словарной статьи хорошо соотносятся с выводами исследователей, специально изучавших концепт «Война» на различном материале; целесообразно обратить внимание на следующее: 1) понятийная фиксация различных характеристик вооруженной войны, «обобщенный образ противостоя- ния враждующих сторон» [2, с. 6]; 2) русской национальной спецификой «отмечены признаки пассивного переживания эмоций… <…> Этнокультурно-маркированной является эмоциональная зона ПЕЧАЛЬ» [18, с. 6]; 3) ассоциативные материалы, отражающие особенности именно «наивного» сознания, хорошо соотносятся с исследовательскими данными, полученными на более обширном материале: «Концеп-тосфера “война” специфично проявляется в обиходном (гражданском) и профессиональном (военном) языковом сознании: в первом случае важнейшими признаками войны выступают ее участники, средства и ужасы войны, во втором случае – детально обозначенные средства и способы ведения боя» [10, с. 4–5]; 4) ассоциативные данные хорошо соотносятся с материалами медиатекстов, ср.: «На основе анализа более 200 текстов российских газет и основных телеканалов <…> представлена характеристика наиболее распространённых ключевых фреймов: абсурд, игра, театр, болезнь, путь, страх, смерть. Энергетическая ёмкость общего текста СМИ поддерживается также за счёт конструктов женщина, ребёнок» [7, с. 72].
Основываясь на этих данных, можно заключить, что в ядерной части «наивного» прочтения концепт «Война» отчетливо пересекается лишь с макроконцептом «Армия» («Вооруженные силы»), далее – с вооруженной борьбой; «наивное» сознание – даже в единичных ассоциациях, на семантической периферии концепта – не фиксирует подавляющее большинство тех видов современной гибридной цивилизационной войны , которые были перечислены нами выше; не отмечаются эти виды и в цитированных эмпирических исследованиях концепта «Война».
Таким образом, налицо драматический диссонанс между обиходными, «наивными» представлениями о войне и теми реальностями, перед лицом которых стоит современный мир, которые фиксируются в прецедентных словосочетаниях, именующих различные виды современной «мировойны».
Пространственно-временные оппозиции: «врéменное – постоянное», «здесь-и-сейчас – во временнóй и/или пространственной отдаленности».
Это оппозиция градуальная, протяженная во времени (ключевые слова: давно – сейчас – потом ) и пространстве ( далеко – рядом – здесь ), с теряющимся в потёмках прошлого началом ( когда-то ), неопределенно-далеким концом ( когда-нибудь ) и перетекающим из будущего в прошлое настоящим. В типизированных обиходных представлениях война – явление преходящее, отдаленное от нас во времени и/или пространстве. В профессиональном военно-политическом знании и деятельности – постоянное, с которым приходится иметь дело здесь-и-сейчас.
Коммуникологическое, узколингвистическое проявление столь резкого различия – в том, что война выступает под разными эвфемистическими, вуалирующими ее суть именованиями: в частности, помимо уже названных словосочетаний геополитическое противоборство и защита национальных интересов , в дискурсе современного агрессора ныне активно используются эвфемистические именования жесткое противоборство, ответы на угрозы, активные операции, конфликты переменной интенсивности и т. п. – с той же денотативно-референциальной нагрузкой, что и дескрипторное существительное война .
Вооруженное противоборство с целью физического уничтожения противника, захвата его территории и ресурсов – лишь один из аспектов гибридной цивилизационной войны, лишь возможный заключительный, финальный этап современных войн, ведущихся преимущественно другими средствами (напомним, что Холодная война 1946–1991 гг., завершившаяся полным поражением нашей страны, была по сути войной гуманитарных технологий без прямых вооруженных столкновений). Полезно припомнить афоризм прусского военного теоретика К. фон Клаузевица из его сочинения «О войне» (1832) «Война есть продолжение политики иными средствами» [25, с. 133], – с тем уточнением, что ныне политическое, экономическое, культурное и иные противоборства, по сути, и есть современная война, – в соответствии с семантическим ядром рассматриваемого концепта, не что иное, как противоборство с целью уничтожения и/или подчинения объекта / объектов агрессии.
Особая точка этой оппозиции – вопрос о «конце времён» (апокалипсическом завершении нынетекущей человеческой цивилизации), его причинах, признаках приближения и способах осуществления. Причины и способы часто смешивают: способы называют причинами . Апокалипсис чаще всего ассоциируют с падением астероида, «бунтом машин», экологическим кризисом, генетическим вырождением, в том числе и с ядерной войной, забывая, что в любом случае первопричина апокалипсического конца – внутри человека, внутри современной ситуации духовно-религиозного кризиса [4] и гибридной цивилизационной войны , которая, минуя все границы, оказывается живущей внутри индивидуального и коллективного сознания. Афористически сформулированное предостережение С. Лема «…для всеобщего уничтожения вовсе не обязательна война, атомная или обычная…» [12] в современных условиях целесообразно продолжить так: достаточно (для «всеобщего уничтожения»), чтобы геополитическое противоборство в разных сферах и формах достигло некоторой критической «точки невозврата». В этом один из возможных «диагнозов апокалипсиса»: причина и способ – вместе.
Подведём итоги.
Словарное ядро концепта «Война», строящееся на семантических компонентах ‘вооруженный’ и ‘нацеленный на физическое уничтожение противника’, существенно диссонирует с современными реальностями. Война как вооруженная борьба – лишь наиболее явное проявление никогда не прекращающейся схватки (конкуренции, борьбы, распри ) между народами и государствами за ресурсы, за власть как возможность доминирования, а значит, за возможность эксплуатации «чужих» к выгоде «своих», за территории («жизненное пространство») и прочие необходимые для процветания блага.
«Дети разных народов, мы мечтою о мире живем» – первая строка общеизвестного в советское время «Гимна демократической молодежи мира», ныне прецедентный текст, ассоциирующийся преимущественно с воспоминаниями о временах Холодной войны. Обратим внимание в цитированной строке, что мир ассоциируется с мечтой , едва ли достижимой. Полковник царской армии, участник Первой мировой войны А. Л. Мариюшкин, будучи в эмиграции, в 1927 году писал: «…мир так же несоизмерим с природой всего, живущего на земле, а в особенности с природой человека, как несоизмерима окружность с ее радиусом» [13, с. 93]. Продолжая эту аналогию, можно сказать: окружность – видимая, реальная природа человека, радиус – виртуальное явление. Можно мысленно провести множество прямых от центра к окружности, но ни одна из них не будет «истинным» радиусом. Так и мир: он существует лишь в умозрении, как абстракция, но на деле любая «модель абсолютно мирной жизни», по большому счету, утопична, – возможны лишь перемирия , компромиссы, но не мир как таковой, особенно если учесть многообразие форм войны.
Это суждение общего характера, выступающее в качестве основного тезиса данной работы, в лингвокультурологической, лингвогерменевтической и лингвокогнитивной перспективе требует детальной реконструкции той части языковой картины мира и языкового сознания, которая связана с лингвокультурным концептом «Война» в рамках, с одной стороны, «наивного», с другой стороны, профессионального (прежде всего военно-политического) языкового сознания.
Tver State University the Department of Russian Language
The subject of this article, on the one hand, is the key semantic components that are substantial for ordinary consciousness and, on the other hand, is the precedent wordcombinations that exist in different varieties of the military and political discourse. In the latter case the different aspects of the contemporary geopolitical confrontation are fixed. These two language phenomena are interpreted on the basis of elementary semantic oppositions such as “Life – Death”, “State – Population” et al.
Список литературы Лингвокультурный концепт "война": семантическое ядро, аспекты герменевтического исследования
- Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.: ИМА-пресс, 1990. 288 с.
- Венедиктова Л. Н. Концепт «Война» в языковой картине мира (сопоставительное исследование на материале английского и русского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/Л. Н. Венедиктова; Тюменский гос. ун-т. Тюмень, 2004. 19 с.
- Военная доктрина Российской Федерации //Российская газета. З0 декабря 2014 г. Федеральный выпуск № 6570. URL: http://www.rg. ru/2014/12/30/doktrina-dok.html. (Дата обращения: 13.11.2016.)
- Волков В. В. Роман Н.С. Лескова «Соборяне» как отображение и прообраз информационно-психологической войны//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 9-2 (59). С. 45-50.
- Волков В. В. Экономические концепты, ментальность россиян и катастрофа приватизации//Жанр. Стиль. Образ: актуальные вопросы современной филологии: межвуз. сб. статей. Киров, 2014. С. 230-239.
- «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века: колл. монография/Под ред. П. А. Цыганкова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. 380 с.
- Ерофеева И. В. Концепт «война» в современном медиатексте: репрезентация традиционных моделей//Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Серия: Филология, история, востоковедение. 2015. № 2 (61). С. 72-82.
- Калюжный В. Г. Геополитическое противоборство как фактор формирования современного мирового порядка: автореф. дис. … докт. полит. наук: 23.00.02/В. Г. Калюжный; Военный ун-т Министерства обороны Рос. Федерации. М., 2012. 46 с.
- Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. М.: Гнозис, 2008. 374 с.
- Крячко В. Б. Концептосфера «Война» в английской и русской лингвокультурах: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/В. Б. Крячко; Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2007. 21 с.
- Курочко М. М. Паноплия войны: готова ли Россия к современным войнам//Гуанитарный вестник. 2014. № 2 (29). С. 195-199.
- Лем С. Мир на Земле //Большая онлайн библиотека e-Reading. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=98273. (Дата обращения: 07.11.2016.)
- Мариюшкин А. Л. Помни войну! Вопросы современной и будущей войны//Фиkософия войны. М.: Анкил-воин; Рос. воен. сб., 1995. С. 91-130.
- Межиров А. О войне ни единого слова не сказал… //Международный портал авторской песни. URL: http://www.bards.ru/archives/part.php?id=53445. (Дата обращения: 06.11.2016.)
- Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов/сост. Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. М.: Книжный мир, 2015. 416 с.
- Мисонжников Б. Я. Концепты «Капитал» и «Война» в публицистике Рихарда Зорге//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 195-200.
- Новейший большой толковый словарь/гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2008. 1536 с.
- Першина Т. В. Эмоциональная концептосфера военного романа (на материале сопоставительного анализа текстов произведений М. Булгакова «Белая гвардия» и Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/Т. В. Першина; Тюменский гос. ун-т. Тюмень, 2011. 22 с.
- Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 1. От стимула к реакции/Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева и др. М.: Астрель; АСТ, 2002. 784 с.
- Сидоров П. И. Ментальный терроризм гибридных войн и синергетика асимметричной обороны//Экология человека. 2014. № 11. С. 38-54.
- Стратегия национальной безопасности США. Февраль 2015 г. Белый дом, Вашингтон//Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов/сост. Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. М.: Книжный мир, 2015. С. 15-81.
- Толковый словарь русского языка начала XXI века: Актуальная лексика/под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2008. 1136 с.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики/сост. А. В. Лебедев. М.: Наука, 1989. 576 с.
- Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … докт. филол. наук: 10.02.01; 10.02.19/Е. И. Шейгал; Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2000. 440 с.
- Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений/авт.-сост. В. Серов. М.: Локид-Пресс, 2005. 880 с.