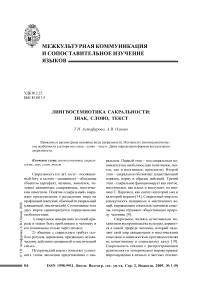Лингвосемиотика сакральности: знак, слово, текст
Автор: Астафурова Татьяна Николаевна, Олянич Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Выявлены и рассмотрены основные виды сакральности. Изучены их лингвосемиотические особенности в алгоритме «знак - слово - текст». Даны определения формам актуализации сакральности
Лингвосемиотика, сакральность, знак, слово, текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14969383
IDR: 14969383 | УДК: 812.22
Текст научной статьи Лингвосемиотика сакральности: знак, слово, текст
Сакральность (от лат. sacer – посвященный богу и sacrum – священное) – обладание объектом (артефакт, явление, животное, человек) священным содержанием, мистическим качеством. Понятие «сакральный» выражает представление о разделении мира на профанный (светский, обычный) и сакральный (священный, мистический). Соотношение этих двух миров характеризуется определенными особенностями:
-
1) сакральное невыразимо по своей природе и может быть приближено к человеку и его пониманию только через символ;
-
2) общение с сакральным требует особого ритуала, церемонии, придающих человеческому действию священный и мистический смысл.
Исторический анализ позволяет установить этапы эволюции представления о сак- ральном. Первый этап – под сакральным понимается все необычное (как позитивное, святое, так и негативное, проклятое). Второй этап – сакральное обозначает существующий порядок, норму и образец действий. Третий этап – сакральное функционирует как святое, мистическое, как идеал и выступает, по мнению Т. Парсонса, как синтез категорий ума и категорий морали [14]. Сакральный мир есть совокупность священных и мистических вещей, выражающих социально значимые смыслы, которые отражают общественную природу человека [9].
Сакральное, являясь естественным механизмом воспроизводства культуры, коренится в самой природе человека, который наделяет свой мир священными и мистическими смыслами и значимостями, противопоставляя их когнитивному и социальному хаосу [19]. Сакральность связана с распространением религиозного и эзотерического мировоззрения/ мироощущения в личных и частных отноше- ниях. Основной признак сакральности – появление в лингвокультурном обороте религиозных и мистических символов в сюжетах смыслозадающих, объяснительных и санкционирующих схем. Сакрализация отражает историческую динамику формирования и развития человеческого общества и культуры – его общественной (власть, политика, право, образование) и личной (семья, хозяйственный уклад, быт, праздники) жизнедеятельности.
В новом тысячелетии наблюдаются явные признаки нарастания сакрализации, то есть рост интереса к религии и магии, появление большого количества нетрадиционных религиозных и мистических течений. Среди причин современной сакрализации, которые крайне разнятся по своему содержанию и значимости, исследователи отмечают:
-
- корни религии (гносеологические, психологические, социальные, бытовые и др.) как совокупность условий ее появления и воспроизводства;
-
- политическую конъюнктуру как фактор привлечения религии к сфере социального управления и власти;
-
- интерес к традиции как неотъемлемому элементу организации человеческого поведения;
-
- кризис материалистического мировоззрения как причину поиска альтернативных протективных схем, в том числе магических [3].
По мнению теософов, альтернативные протективные схемы включают элементы народной (бытовой) магии, в частности, сак-рализованные знаки отгонной (апотропеичес-кой) и очищающей (катартической) магий [8]. Этот мир живет по приметам, и судьбы людей в нем раскрываются гаданьем, корректируются заговорами, заклинаниями и молитвами. Этот мир, населенный удивительными существами – колдунами, ведьмами, домовыми, живет по своим древним законам и в нем оживает мистический опыт наших предков. Так, А. Бушков, художественно осмысляя исторические реалии бытовой магии в России начала XIX в., пишет: «Этот мир насыщен “ведовством” гораздо сильнее, чем кажется образованным, прогрессивным и вольнодумным горожанам. Мелкое ведовство присуще испокон веков провинции, представлено гада- ниями, всевозможными наговорами – заговорами, присухами и прадедовским искусством пастушьего, рыбацкого и мельничного свойства: окружающие гадали на женихов и невест, порой насылали град на посевы врагов, накладывали заклятья на благополучную поездку, на сбережение стада, на добрый улов и т. п. Но это было именно что мелкое, житейское, подручное колдовство, провинциальное умение время от времени пользоваться не силами даже, а если можно так выразиться, штучками, в которые горожане верили плохо, но которые, тем не менее, существовали по углам. Простая и совершенно неграмотная крестьянка Ульяна заговаривала зубную боль, а столь же темный крестьянин Пахом накладывал на амбары какие-то слова, навсегда изгонявшие мышей и не позволявшие являться новым. И так далее, и тому подобное. Дело было совершенно житейское» [6, c. 67–68]. Таким образом, в понимание сакрального вносится элемент мистического, исследуются его лингвосемиотические феномены, их свойства и отношения [8; 10].
Понимание сакрального как священного, религиозного, мистического, относящегося к религиозному культу и магическому ритуалу [15] раскрывается при исследовании проблемы лингвосемиотики сакрального. Словарные дефиниции позволяют уточнить суть этого феномена: Сакральное – 1. Религиозные и мистические ценности – вера, таинства; 2. Совокупность текстов, языковых формул, артефактов, зданий и прочее, входящее в систему религиозно-мистической практики [2]. Ср. также: Сакральное – Священное (от лат. sacrum – священность) – предмет религиозной веры; особые существа, связи и отношения, которые в различных религиях приобретают характер сверхъестественного и мистического [5].
Таким образом, сакральность представляет собой комплексный феномен, значение которого актуализируется различными лингвосемиотическими способами – вербальным (тексты 1, языковые формулы), акциональным (действия, обряды, ритуалы), предметным (вещи, здания), персональным (существа, персонажи, лица) и т. д. Основной сферой семи-озиса сакрального выступают вера и магия, которые манифестируются соответственно в религиозном и магическом дискурсах – их семиотике, семантике, текстах, ритуалах и обрядах.
Семиотика (греч. semeion – знак) – область знания, занимающаяся сравнительным изучением знаковых систем от простейших систем сигнализации до естественных языков и формализованных языков науки. Основными функциями знаковой системы являются: 1) функция передачи сообщения или выражения смысла; 2) функция общения, то есть обеспечение понимания слушателем (читателем) передаваемого сообщения, а также побуждение к действию, эмоциональное воздействие и т. п. Осуществление любой из этих функций предполагает определенную внутреннюю организацию знаковой системы, то есть наличие различных знаков и законов их сочетания.
Познание и когнитивное освоение человеком мира, его окружающего и дающего ему жизнь, неразрывно связаны с семиозисом, понимаемым как означивание, то есть процесс «знакового представления информации и использования знаков во всех сферах природной и социальной жизни, где имеют место информационные процессы» [13, c. 14]. Самым древним примером такого процесса является формирование системы знаков, отражающих борьбу человека с силами природы, обеспечивающую выживание человека как вида. В этой борьбе человек опирался на универсальную религиозно-мистическую систему знаков, формируя особый тип коммуникации – протективный [1].
Декодируя эти знаки, социум выстраивает свое коммуникативно-прагматическое поведение в соответствии с полученной семиотической информацией: необходимость защиты формирует алгоритм противодействия враждебным силам природы и становится частью иррациональной картины мира этноса, в которой сосуществуют знаки, отражающие мифолого-теологические и мистические представления. Их разграничение связано с разными типами протекции, обусловленной:
-
- соблюдением религиозных заповедей, нравственных норм христианской морали во избежание наказания «в жизни после смерти»;
-
- бытовой (народной) магией как средством защиты от злых сил в земной жизни.
Семиотический аспект религиозной и магической протекции дифференцирован по качеству знака: религиозная лингвосемиоти-ка вовлекает сакральные мифы и символы, магическая лингвосемиотика – сакрализован-ные знаки отгонной (апотропеической) и очищающей (катартической) магий [10].
Семиотика религиозной протекции коррелирует с мифологическим символом как обобщенным представлением о «...некоей неопределенной божественной силе, злой или (реже) благодетельной, часто определяющей жизненную судьбу человека. Это мгновенно возникающая и мгновенно уходящая страшная роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить ни в какое общение. Внезапно нахлынув, она молниеносно производит какое-либо действие и тут же бесследно исчезает...» [11, c. 366]. Страх человека перед этой амбивалентной силой включал когнитивные механизмы защиты от нее, которые, с одной стороны, вербализовались в мифологических эвфемизмах (теонимах и де-монимах – термины Е.М. Черниковой [17]), косвенно номинирующих Бога и его антагониста Сатану; с другой – требовали следовать заповедям Бога, апеллирующим к добрым деяниям христианина.
Христианские теонимы Бог ( The God ), Господь ( The Lord ) восходят к голландскому Goode, немецкому Gott и, в свою очередь, к древнетевтонской форме « gudo », обозначавшей того, к которому взывают: « The word God is derived from the old Teutonic form gudo which means that which is invoked (or worshipped) by sacrifice »2. Демоним Сатана ( The Satan ) развился из еврейского sātān – противник в суде, в споре или на войне, препятствующий, противоречащий, обвинитель, наушник, подстрекатель, а также имя нарицательное, воспринимаемое как прозвище безымянного врага.
Третья ветхозаветная заповедь (табу на имя Бога) в Новом Завете не упоминается ни разу, вероятно, это позднее переосмысление. И запрет на произнесение имени бога, и запрет на произнесение демонима сохраняются только в устной традиции. Разница заключается только в том, что официальная церковь признает табу на теоним, а табу на демоним становится суеверием.
Вера в магическую силу имени была не только в перечисленных выше религиях индоевропейцев, подобную веру мы встречаем также у скифов и сарматов. В германо-скандинавской мифологии она выражалась в создании кеннингов (иносказаний) и эвфемизмов, замещающих истинные имена богов [12, с. 287], как номинативного механизма нейтрализации страха. Так, в английском языке существуют многочисленные эвфемистические замены, образующие разветвленную лексическую систему теонимов, базирующуюся на их фонетической деформации:
-
- Jesus – Jeez, Gee, Jeepers, cheesy, G, jeminy, ginger;
-
- God – Golly, Gosh, Egad, Gott, Goshen;
-
- Christ – Cripes, Cristopher Columbus, Chris, cricket;
-
- God Almighty – Gor-a-mighty, goramighty, godalmighty;
-
- Jesus Christ – Jesus H. Christ, Jesus H. Particular, Judas Priest, Jupiter;
-
- Lord – Laws, Lawsy, Lor’, Lawd, Lordy .
Кроме этого, одним из наиболее частотных способов религиозной протекции представляется использование эвфемизмов, построенных на основе метафорической передачи его могущества ( the Almighty, the most High, Possessor of heaven and earth ), радетеля человеческой добродетели ( the shield of thy help; the everlasting arms, the sword of thy excellency, the shepherd ) и первоосновы всего сущего ( the stone of Israel; the Rock that begat thee ), строгого судьи, сурово карающего за неблаговидные поступки и злые помыслы человека ( Judge of all the earth, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward, the fear of Isaac, a consuming fire ).
В англоязычной лингвокультуре подобной эвфемистической трансформации подвергаются и имена антагонистов Бога, которые представлены устоявшейся в универсальной религиозной практике иерархией демонов. Эта иерархия имеет 9 чинов или уровней, на каждом из которых располагаются «падшие ангелы»:
-
- 1-й чин – псевдобоги, их князь – Вельзевул ( Beelzebub ), на древнееврейском – «повелитель скверны»;
-
- 2-й чин – пророчествующие демоны, духи лжи, говорящие через оракулов;
-
- 3-й чин – духи беззаконий, изобретатели злых дел и порочных искусств;
-
- 4-й чин – духи злодейства и дьявольской мудрости, их князь – Асмодей ( Asmodeus ), на древнеперсидском – «дух гнева»;
-
- 5-й чин – духи-обманщики, их князь – Сатана ( Satan ), на древнееврейском – «противник»;
-
- 6-й чин – духи, несущие бедствия, их князь – Мерезин ( Meresin );
-
- 7-й чин – сеятели раздоров и войн, их князь – Авадон ( Abbadon ), на древнееврейском – «разрушитель»;
-
- 8-й чин – демоны-клеветники, доводящие до отчаяния;
-
- 9-й чин – демоны-искусители, их князь – Мамона ( Mammon ), на сирийском – «богатство».
Антагонисты Бога номинируются:
-
- антропонимами, акцентирующими древность дьявола как поборника зла ( Old Bendy, Old Cain, Old Clootie, Old Harry, Old Henry, Old Man, Old Ned, Old Nicky, Old Sam Hill );
-
- устаревшими междометными словами негативного характера ( the Old dickens, the Old divel );
-
- метафорическими и метонимическими оборотами ( the Old deuce, Old Poker, Old Roundfoot, Old Scratch, Old Scratcher, Old Splitfoot , Old Serpent, the tempter, evil, a great red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads, a beast with seven heads and ten horns, the false prophet ), семиотика которых связана с образными номинациями антагонистов Бога, искушающих человека совершать грех прелюбодеяния ( adultery, fornication, lechery, lasciviousness, lust ), подстрекательства ( seditions ), сотворения кумира ( idolatry ), колдовства ( witchcraft ), ненависти ( hatred ), пререканий ( variance ), гордыни ( emulations, pride ), гнева ( wrath ), ссоры ( strife ), ереси ( heresies ), зависти ( envy ), убийства ( murders ), пьянства ( drunkenness ), невоздержанности
(revelling), обжорства (gluttony) и др. [1]. Англиканские протестанты искали в религии защиту от демонов, каждый из которых искушал совершением одного из семи смертных грехов: Asmodeus – Lust, Beelzebub – Gluttony, Mammon – Greed, Belphegor – Sloth, Satan – Wrath, Leviathan – Envy, Lucifer – Pride.
Религиозная сакральность основана на прототипном убеждении в том, что будущее или исход определенных важных событий зависят от добродетельного поведения христианина. В отличие от язычников, которые трепетали от страха перед богами как раб перед своим жестоким и своенравным господином, христиане отдавали свою судьбу в руки милосердного Бога, дарующего всепрощение и любовь при соблюдении его основных заповедей ( Commandments ). Любые беды воспринимались как кара господня ( a sign of divine disfavor ) за отклонение от исполнения предписанных правил и норм, вне зависимости от причастности верующего к этим несчастьям. Формой протекции от Божьего гнева являлось замаливание грехов через тексты молитвы, исповеди и причастия как основных жанров религиозного дискурса.
Выделение жанров религиозного дискурса определяется общением человека с Богом, эзотерическим иллокутивным потенциалом, совокупностью интенций, ведущую роль в которой играет поиск защиты у Бога и искупление наказания за неправедную земную жизнь.
В религиозном дискурсе, исходя из особенностей его порождения и функционирования, выделяют первичные и вторичные речевые жанры. К первичным относят псалмы, притчи и молитвы как прецедентные религиозные тексты, первоисточники; к вторичным – проповеди и исповеди как интерпретации первичных жанров [4]. Религиозный жанр представляет собой формальное выражение этнокультурных верований. Определение жанров, таким образом, соответствует исследованию той «...народной почвы, из которой произросли религиозные идеи» [7, c. 68], и является «полем реализации определенного спектра социальных ценностей и основанных на них лингвокультурных концептов» [16, c. 178].
Протективная функция сакрального текста псалма (молитвы) реализуется через номинации обещания спасения (salvation), защиты (defence), охраны (For he shall give his angels charge over thee: to keep thee in all thy ways; They shall bear thee in their hands: that thou hurt not thy foot against a stone) и избавления от страха перед физическими (Thou shalt go upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou tread under thy feet) и нравственными (There shall no evil happen unto thee; I am with him in trouble; I will deliver him) страданиями при условии любви к Богу, веры в него и исполнения его заповедей (Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him up, because he hath known my Name).
Притчи ( parables 3) являются базовым элементом пасторских бесед, в которых описываются примеры защиты истинных христиан Богом и чудес, творимых им (воскрешение Христом Лазаря, исцеление им прокаженного, хромого, слепого; утоление Богом голода страждущих семью хлебами и т. д.). Большая часть притч построена на использовании аллегории или иносказания, в котором за буквальным значением текста скрыт его подлинный смысл, легко предсказуемый, понимаемый и выводимый из содержания. Понимать Библию буквально – значит ничего не понимать. Ни один серьезный историк религии не может отрицать того факта, что Библия есть наиболее крупный и законченный плод многовекового символизма, то есть «запечатления» умозрительной идеи в том или ином предметном образе, нуждающемся в комментарии.
Композиционно притча состоит из: 1) библейской скрижали ( Biblical scripture ) как первоисточника; 2) медитативной части ( meditation ), представляющей собой нравственное наставление-комментарий священника, который разъясняет этическую суть описываемой ситуации; 3) апеллятивной части ( short prayer ), подтверждающей готовность христианина соблюдать заветы Господа.
Базовые концепты веры непосредственно связаны с ценностно-когнитивными ориентирами человека: каждый этнос интегрирует свои представления о вере в виде национальной религиозной концептосферы, когнитивное освоение которой формирует национальное самосознание, ориентированное на теософские догматы православия, католицизма, протестантизма, англиканства и др. Религиозная сакральность выступает как особая иррациональность универсального характера в отли- чие от мистической сакральности – этнически самобытной, посредством которой осуществляется передача социопротективного опыта от поколения к поколению.
Бытовая магия как мистическая сак-ральность обладает ярко выраженным суггестивным потенциалом, реализуя базовые стратегии предостережения, коррекции и протекции. Предостережение направлено на предупреждение о возможных опасностях, отраженных в этноспецифических приметах. Коррекция (очищающая магия) связана с исцелением недугов и нормализацией девиантного психосоматического состояния через алгоритмизированные, семиотически насыщенные обряды и заговоры. Протекция (отгонная магия) – это защита от враждебных внешних воздействий через заклинания и символически насыщенные ритуалы.
С мистической сакральностью коррелирует аксиологическая система магической лингвосемиотики, в основе которой лежит интенциональная диада «добродетель – злодеяние». В нее включены позитивные – ценностные – константы (человеколюбие, трудолюбие, честность, целомудрие, щедрость, здоровье и т. д.), противопоставленные негативным – антиценностным (ненависть, обман, клевета, болезнь, порча, сглаз, алчность, прелюбодеяние и т. п.). Аксиологическая значимость выделенных констант рефлектирована в этноспецифической системе магических знаков, символов, ритуалов.
Магическая лингвосемиотика вовлекает в сакрализованное коммуникативное пространство знаки отгонной (апотропеической) и очищающей (катартической) магий [8] и направлена на снятие бытовых страхов болезни, неудач, негативного влияния окружающих на судьбу человека. Она представлена:
-
- магическими артефактами (обереги, амулеты, талисманы, инструменты и т. д.);
-
- магическими текстами (заговоры, заклинания, приметы и т. д., описывающие механизм воздействия человека на окружающий мир с целью защиты от его негативного влияния);
-
- магическим ритуалом (формализованная последовательность действий, как правило, сопровождающих магические тексты).
Магические знаки защищают от болезней и порчи ( amuletn = an object worn, especially around the neck, as protection against illness or injury ); неудачи и дурного глаза ( charmn = an item worn for its supposed magical benefit, as in warding off evil ) и обеспечивают покровительство добрых сил ( talismann = an object believed to confer on its bearer magical powers of protection ).
К инструментам магической лингвосе-миотики в первую очередь относятся мистические артефакты ( dummies, wax figure, bell, candle, magic recipe, brew, broth, needle, thread, philter, potion, jar, moly, wand, wand, magic ring, magic mirror ), которым приписывается суггестивная сила в рамках протектив-ного ритуала. Особой суггестивной силой наделяются магические травы ( magic herbs ), которые:
-
- охраняют от нечистой силы, колдовства: dill (укроп) – used to ward off sorcery, break hexes, protect against demons and evil ghosts ; pine (сосна) – used to heal, to protect against evil entities and negative vibrations, to increase female fertility, and protect against all harmful beings so as to break hexes by burning the needles;
-
- защищают от стихий и людских пороков: hagthorn (боярышник) – а tree of protection against lightning , evil eye, and malevolent entities; thistle (чертополох) – used in protection against thieves , healing spells and hex breaking; oak (дуб) – used for healing and protection against lightning, bad luck , and evil beings;
-
- снимают порчу, сглаз: juniper (можжевельник) – used to guard against black magic , supernatural entities, enemies, disease and accidents ; lavender (лаванда) – used for healing and purification as well as to protect against evil eye ;
-
- очищают от болезней, депрессии и ночных кошмаров: rosemary (розмарин) – used to protect and prevent nightmares , preserve youthfulness, dispel depression and induce sleep ; mistletoe (омела) – а great protection herb to heal wounds quickly ;
-
- приносят благополучие, удачу, любовь, физическое здоровье, исполнение жела-
- ний: orchid (орхидея) – used in love spells, philtres, and rituals to induce psychic powers, to attract good luck and success; hazel (орех лещина, фундук) – to attract good luck, make wishes come true; fern (папоротник) – used to attract good luck, to bring rain; mint (мята) – used for money attracting [18].
Магические тексты, произносимые по особым правилам и в особых условиях, символически насыщены и обладают устойчивой формально-содержательной структурой, которая отражает особенности мистического (иррационального) сознания.
Разное сочетание прогностики, суггестии и акциональной семиотики актуализируется в магических текстах как лингвокультурных знаках, обеспечивающих:
-
- предугадывание, предупреждение об опасности, предвосхищение события в виде совета ( omen = prognostic sign for a person to be aware of his good / bad luck – прогностические приметы);
-
- исполнение апотропеической (отгонной) и катартической (очищающей) магии ( chant = a suggestive monotonous rhythmic and rhymed protection verse or formula 4 – заговор);
-
- исполнение магических ритуалов, поддерживающих магические тексты ( spell с его латинским этимологическим дублетом charm = an action and a magic word , verse or formula thought to have magical power 5 – заклинание).
Таким образом, лингвосемиотика сак-ральности, актуализируемая в знаке, слове, тексте, формирует лингвокогнитивное пространство протективной коммуникации при помощи религиозных и магических знаков, номинаций, текстов, сопровождающих религиозные и магические ритуалы.
Список литературы Лингвосемиотика сакральности: знак, слово, текст
- Астафурова, Т. Н. Лингвопрагматика протективной коммуникации/Т. Н. Астафурова, А. В. Олянич//Профессиональная коммуникация: проблемы гуманитарных наук. Вып. 2. -Волгоград: Нива, 2007-2008. -С. 9-15.
- Атеистический словарь. -М.: Госполитиздат, 1984. -351 с.
- Безнюк, Д. К. Основы социологии религии/Д. К. Безнюк. -Минск: Бел. навука, 2003. -230 с.
- Бобырева, Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии: дис.... д-ра филол. наук/Е. В. Бобырева. -Волгоград, 2007. -465 с.
- Большой энциклопедический словарь/под ред. А. М. Прохорова. -М.: Большая рос. энцикл., 2001. -1459 c.
- Бушков, А. Колдунья. Авантюрно-мистическая сказка для взрослых/А. Бушков. -М.: Олма Медиа Групп, 2007. -340 с.
- Верещагин, Е. М. Лингвострановедческая теория слова/Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. -М.: Рус. яз., 1980. -320 с.
- Гультаева, Н. В. Язык русского заговора: лексика: автореф. дис.... канд. филол. наук/Н. В. Гультаева. -Екатеринбург, 2000. -21 с.
- Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни/Э. Дюркгейм. -Берн, 1912. -410 с.
- Коновалова, Н. И. Сакральный текст как лингвокультурный феномен: автореф. дис.... д-ра филол. наук/Н. И. Коновалова. -М., 2007. -50 c.
- Лосев, А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию/А. Ф. Лосев. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1982. -479 с.
- Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа/Е.М.Мелетинский. -М.: Наука, 1976. -407 с.
- Мечковская, Н. Б. Язык и религия/Н.Б.Мечковская. -М.: Гранд, 1998. -352 с.
- Парсонс, Т. Общества: эволюционные и сравнительные перспективы/Т. Парсонс. -М.: Акад. проект, 2002. -538 с.
- Словарь иностранных слов. -М.: Эксмо-пресс, 1999. -672 c.
- Слышкин, Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. дис.... д-ра филол. наук/Г. Г. Слышкин. -Волгоград: ВГПУ, 2004. -39 с.
- Черникова, Е. М. Эвфемизация теонимов и демонимов в некоторых индоевропейских и афразийских языках: дис.... канд. филол. наук/Е. М. Черникова. -Челябинск, 2007. -254 с.
- Чернявская, Т. В. Дискурсивное пространство англоязычных предрассудков: автореф. дис.... канд. филол. наук/Т. В. Чернявская. -Волгоград, 2008. -18 с.
- Berger, P. L. The Social Reality of Religion/P. L. Berger. -L.: Pergamon Press, 1969. -390 р.