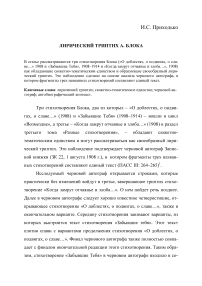Лирический триптих А. Блока
Автор: Приходько Ирина Степановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Филологический анализ лирического стихотворения
Статья в выпуске: 3 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются три стихотворения Блока («О доблестях, о подвигах, о славе…» 1908 и «Забывшие Тебя», 1908-1914 и «Когда замрут отчаянье и злоба…», 1908) как обладающие сюжетно-тематическим единством и образующие своеобразный лирический триптих. Это наблюдение сделано на основе анализа чернового автографа, в котором фрагменты трех названных стихотворений составляют единый текст.
Лирический триптих, сюжетно-тематическое единство, черновой автограф, автобиографический контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/14914172
IDR: 14914172
Текст научной статьи Лирический триптих А. Блока
Три стихотворения Блока, два из которых – «О доблестях, о подвигах, о славе…» (1908) и «Забывшие Тебя» (1908–1914) – вошли в цикл «Возмездие», а третье – «Когда замрут отчаянье и злоба…» (1908) в раздел третьего тома «Разные стихотворения», – обладают сюжетнотематическим единством и могут рассматриваться как своеобразный лирический триптих. Это наблюдение подтверждает черновой автограф Записной книжки (ЗК 22, 1 августа 1908 г.), в котором фрагменты трех названных стихотворений составляют единый текст (ПАСС III: 264–265)1.
Исследуемый черновой автограф открывается строками, которые практически без изменений войдут в третье, завершающее триптих стихотворение «Когда замрут отчаянье и злоба…». О нем пойдет речь позднее. Далее в черновом автографе следует хорошо известное четверостишие, открывающее стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе…», также в окончательном варианте. Середину стихотворения занимают варианты, из которых выстроится текст стихотворения «Забывшие тебя». Этот текст плотно спаян с вариантами продолжения стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе…». Финал чернового автографа также полностью совпадает с финалом окончательной редакции этого стихотворения. Таким образом, стихотворение «Забывшие Тебя» в черновом автографе входило в со- став стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе…» и только к концу 1908 г. было выведено как самостоятельный текст, который окончательное оформление получил в 1914 г. (III: 43–44, 264–266, 642–645).
Хорошо известный поэтический текст Блока – «О доблестях, о подвигах, о славе…» – имеет отчетливо автобиографический контекст и интимно-лирическую интонацию:
О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на суетной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо иной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем… Вино и страсть терзали жизнь мою… И вспомнил я тебя пред аналоем, И звал тебя, как молодость свою…
Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, В котором ты в сырую ночь ушла.
Уж не мечтать о нежности, о славе, Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола.
Стихотворение «Забывшие Тебя», связанное в своем первоначальном замысле в составе чернового автографа с той, которая ушла, сохранило эту связь: героиня, став далекой, преображается в сознании поэта во все тот же обожествленный женственный образ, местоименное обращение к которо- му – Ты – еще со времен «Стихов о Прекрасной Даме» означено прописной буквой: «Забывшие Тебя».
Однако заголовок – «Забывшие Тебя», – откликающийся в завершающем стихе модуляцией в единственное число: «Забывшему Тебя» и замыкающий стихотворение в кольцо, в таком виде едва ли мог относиться к конкретному лицу автобиографического подтекста, подобно тому как это происходит в стихотворении «О доблести, о подвигах, о славе…». Первоначальный вариант, соединяющий эти два текста, подтверждает высказанное предположение: в четверостишии, которое станет первым в стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе…», обращение к героине со строчной буквы ( Когда твое лицо в простой оправе ) подразумевает вполне земной образ, точнее – его портрет. Знаменательно и то, что среди пробных вариантов этой строки были: Когда твой лик и Когда твой милый лик . Высокое архаическое слово лик , относимое в современном языке к божественному образу или иконе, приходило в противоречие с написанием твой со строчной буквы и, в конечном счете, с блоковским представлением о героине этого стихотворения. Таким образом, есть основание предположить, что первоначальный общий текст разделился в соответствии с ипостасью героини: земной женщины и Божественной Женственности. Контаминация этих двух воплощений в претексте не устраивала поэта, разделение произошло совершенно естественно и подсказало соответствующее оформление текстов.
В черновом автографе Записной книжки (ЗК 22) первоначальные варианты четверостиший, которые впоследствии будут разведены в разные стихотворения, объединяются в восьмистишие прежде всего заглавной буквой обращения Тебя , Ты :
Напрасный жар! Напрасные надежды!
Мечтали мы, мечтаний не любя, И не было ни пищи, ни одежды, Ни крова, ни свободы… ни Тебя! Я звал Тебя – и Ты не оглянулась.
Я слезы лил – и Ты не снизошла.
Ты в серый плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла.
Характерно, что заглавное Ты в пятом стихе было первоначально строчным (III: 265), но в восьмом стихе строчное ты осталось. Надо полагать, что и в предыдущем ( Ты в серый плащ печально завернулась ) не было бы заглавной буквы, если бы ею не открывалась стиховая строка.
И далее в двух четверостишиях, которые практически без изменений войдут в стихотворение, открывающее цикл «Возмездие», ты останется строчным.
В отделившемся стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе…» интимные «ты», «твое» со строчной буквы, многократно повторенные на протяжении стихотворения, создают замкнутую атмосферу глубоко личного переживания. Персонажный ряд состоит только из двух лиц – «я» и «ты». Место действия – дом поэта, где с ним была она, – маркировано в первом и последнем четверостишии предметом мебели («на столе», «со стола») и портретом («твое лицо в простой оправе», «в его простой оправе»). Пространственной антитезой «дому» становится «ночь» («Я бросил в ночь заветное кольцо»; «В сырую ночь ты из дому ушла»; «в сырую ночь ушла»). Время – продолженное прошлое – четко разделено роковым часом («Но час настал») на «до» ее ухода (первое четверостишие) и «после»:
Летели дни, крутясь проклятым роем… Вино и страсть терзали жизнь мою…
В этом круговороте бесцельных дней – воспоминание о ней («пред аналоем»), о ее уходе («Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла»). Настоящее – забвение («Я забыл прекрасное лицо») и сон («Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, / В котором ты в сырую ночь ушла»). Будущего – нет («Уж не мечтать…»; «Все миновалось»; «Своей рукой убрал я со стола»).
Целый ряд образов в стихотворении «Забывшие Тебя» прорастает из предшествующего стихотворения и перекликается с ним. Прежде всего зачин: «И час настал». В истоках – евангельский («не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий…» Мф 25, 13; «еще не пришел мой час» Ин 2, 4 и др.), но включивший и поэтическую традицию (Ф.И. Тютчев: «Но час настал, пробил… Молитесь Богу…» в стихотворении «Я лютеран люблю богослуженье…» (1834) (III: 646)), он становится знаковым в контексте эсхатологических ожиданий символистов. У самого Блока формула наступления рокового часа повторяется во многих текстах 1908 г. («На поле Куликовом»: «Теперь твой час настал. – Молись!» (III: 173); в «Песне Судьбы»: «не знаю, что делать, не должен, не настал мой час! <…> жду всем сердцем того, кто придет и скажет: “Пробил твой час! Пора!”» (CC 4: 149)2).
Пронзительная деталь ее ухода – синий плащ (в одном из вариантов ЧА – серый плащ ) – в контексте символики плаща как предмета одежды, знаменующего закрытость, тайну, отчуждение, непереходимую границу, одиночество, подчеркивается еще и цветом – синий , знаковым в блоковском символизме, означающим далекость, недоступность мечты, желанность и недостижимость. Этот комплекс смыслов усилен жестом и действием: завернулась… ушла. Плащ укрывает ее не только от ночной непогоды, но и от того, чей дом она покидает. В ее волевом уходе нет торжества победительницы: казалось бы, она уходит в новую жизнь: «Ты отдала свою судьбу другому», но, по сути, «в сырую ночь», в бесприютность. Уход совершается не по причине новой любви, но от гордыни :
Не знаю, где приют своей гордыне Ты, милая, ты, нежная, нашла.
В стихотворении «Забывшие Тебя» плащ как символ ухода сохраняется, но теперь он не связан с персоналией, а выступает как обобщенный символ времени («Свой плащ скрутило время»), в котором дом покидает не один только лирический герой, но толпа, народ, женщины и дети.
Смысл ветхозаветного «Исхода» отчетливо прочитывается в этом тексте:
И час настал. Свой плащ скрутило время, И меч блеснул, и стены разошлись.
И я пошел с толпой – туда, за всеми, В туманную и злую высь.
За кручами опять открылись кручи, Народ роптал, вожди лишились сил. Навстречу нам шли грозовые тучи, Их молний сноп дробил.
И руки повисали словно плети, Когда вокруг сжимались кулаки, Грозящие громам, рыдали дети, И жены кутались в платки.
И я, без сил, отстал, ушел из строя, За мной – толпа сопутников моих, Нам не сияло небо голубое,
И солнце – в тучах грозовых.
Скитались мы, беспомощно роптали, И прежних хижин не могли найти, И, у ночных костров сходясь, дрожали, Надеясь отыскать пути…
Напрасный жар. Напрасные скитанья.
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.
Так – суждена безрадостность мечтанья Забывшему Тебя.
Ассоциацию с Исходом3 поддерживает метафора: «И меч блеснул, и стены разошлись»4, отдающаяся реминисценцией меча, рассекающего толщу Чермного моря. Образ «двух расплеснутых стен» уже звучал у Блока в стихотворении, датированном 25 января 1906 г., за которым с очевид- ностью стоит библейская история исхода из рабства:
Мы подошли – и воды синие, Как две расплеснутых стены. И вот – вдали белеет скиния, И дали мутные видны.
Трудности и испытания долгого пути, ропот народа, усталость вождей, гнев и отчаяние ведомых, грозовые тучи, громы и молнии, сопровождающие идущих, – за всем этим угадывается известная библейская история. Одновременно своим стержневым сюжетом это стихотворение перекликается с «Дионисом Гиперборейским». Люди не просто одолевают пространство длиной в сорок лет, но берут высоту, поднимаются неуклонно в гору, в туманную и злую высь : За кручами опять открылись кручи … Обессилевший герой отстал, ушел из строя . Отличие от «Диониса Гиперборейского» в том, что он не один противостоит «героизму» Вождя: за ним – толпа сопутников. Если в первом четверостишии: «И я пошел с толпой – туда, за всеми», то теперь, с середины стихотворения – «За мной – толпа сопутников моих» . Теперь сам герой выступает предводителем. В его отречении от круч и вершин – иной героизм: это уже не восхождение, а скитанья в надежде отыскать пути .
В наброске «Дионис Гиперборейский» (ЗК 15) «на скитанья среди скал» обречены «слабые и усталые, отчаявшиеся в пути»4. Герой здесь не с теми, кто ушел выше вслед за Вождем, и не с другими, нисхождение к которым «было бы для него бесконечной тоской и проклятием» . «Этот юноша остается ОДИН В ЛЕДЯНЫХ ГОРАХ <…>. Он готов погибнуть. НО ПОЕТ в нем какая-то МЕРА ПУТИ , им пройденного (та мера, которою исполняется человек в присутствии божества)» <выделено курсивом и заглавными буквами Блоком – И.П. >. МЕРА приводит в гармонию «плоть и дух познавший», знаменует самопознание, ведет к обретению чаемого. На настойчивый зов юноши « ОТВЕТСТВУЕТ ему Ее низкий голос».
В стихотворении «Забывшие Тебя» скитания слабых и уставших, среди которых – лирический герой («мы»), бесплодны, они не могут вернуться в прошлое («И прежних хижин не могли найти»), но для них нет и будущего, и хотя они еще помнят о своей мечте отыскать пути, они все менее верят ей. Блуждающие во тьме, в ночи («И у ночных костров схо- дясь, дрожали»), под грозовым небом, – без солнца («Нам не сияло небо голубое, И солнце – в тучах грозовых»), без светоносной и направляющей памяти о «присутствии божества», беспомощны и обречены на вечные скитанья, на утрату мечты, радости, любви:
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.
Так – суждена безрадостность мечтанья
Забывшему Тебя.
Отпочковавшееся от первоначального комплекса чернового автографа, это стихотворение продолжает сохранять свою связь с героиней, преобразившейся в вечный образ красоты, света, истины и любви. Но это может быть и сам Бог, который в столпе облачном и огненном ведет тех, в ком сильна вера и знание о Нем. Забывшие Бога обречены на бесцельность скитаний. В стихотворении «Он занесен – сей жезл железный…», 1914 (III: 144) Блок сам произвел подмену: «Сияние Ее Лица» имело в одном из предварительных вариантов: «Сиянье Божьего Лица» (III: 459).
Тема забвения в стихотворении «Забывшие Тебя» прорастает из пра-текста, оформившегося в первое стихотворение 1908 г., в котором само слово в разных видовых формах ( забывал , забыл ) звучит дважды. В первом случае – в первой строфе – речь идет о забвении суетных устремлений, связанных с проявлениями героики («О доблестях, о подвигах, о славе»), перед ее образом, явленном на портрете. Это даже не сама она , а отраженное сияние ее лица «в простой оправе». Во второй строфе, после ее ухода – «я забыл прекрасное лицо», и это забвение катастрофично, оно ввергает героя в бесцельный и бессмысленный водоворот жизни. Лишь воспоминание о ней , юной и прекрасной невесте («пред аналоем»), выводит его из состояния забытья и, несмотря на ее безответность, возвращает к этой любви.
В построении стихотворения есть противоречие между образом и действиями героини: сияние ее лица на портрете соотносимо с сиянием божества, в то время как ее действия («ушла из дому», «отдала свою судь- бу другому», «не оглянулась», «не снизошла», «в синий плащ печально завернулась», «из дому ушла» и др.) говорят о ней как о несчастной в любви земной женщине. Но именно к ней, к земной, с которой связаны боль и страдание, возвращается в своих снах и мыслях поэт, а эмблему любви – ее портрет («лицо в простой оправе») он из своей жизни «убирает».
В последнем стихотворении триптиха поэт находит пути соотнесения ЕЕ земной и божественной, человека и эмблемы:
Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.
Ты обо мне, быть может, грезишь в эти Часы. Идут часы походкою столетий, И сны встают в земной дали.
И вижу в снах твой образ, твой прекрасный, Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:
Все та же ты , какой цвела когда-то, Там, над горой, туманной и зубчатой, В лучах немеркнущей зари.
Разведенные по разным полюсам земли (можно ли быть дальше?) земной страстью и злобой, они, погруженные в сон, как бы прорываются за грань земного бытия, времени и пространства: «Идут часы походкою столетий, / И сны встают в земной дали». Поэт видит в ней тот незабвенный образ, который некогда явился ему, «там, над горой, туманной и зубчатой, / В лучах немеркнущей зари», и показывает ЕГО ей, земной, прошедшей через злую и страстную ночь: «Смотри:». Две ипостаси героини – земная и небесная – соприсутствуют в своем отчужденно раздвоенном бытии в сознании поэта. Невозможно «убрать», стереть из памяти этот однажды явившийся образ, подобно тому, как герой первого в этом триптихе стихотворения убирает со стола портрет. И его невозможно «забыть», как забыл герой второго стихотворения, потерявший главный ориентир в поисках пути. Это тот самый «ослепительно яркий свет», который ведет героя через отчаянье и сомнения, помогает преодолеть «падения» и «уклонения».
-
1 Блок А.А. Полное академическое собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. III. М., 1997. С. 43–44; 92; 264–266; 343–344; 643–647; 775–777. Здесь и далее ссылки на это издание (ПАСС) см. в тексте в скобках с указанием тома римской цифрой и страницы – арабской. Отсылки к опубликованному в этом издании черновому автографу будут обозначены в тексте как ЧА.
-
2 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 4. М.; Л., 1961. С. 149.
-
3 Под этим заголовком было напечатано стихотворение «Идут часы, и дни, и годы…» (4 октября 1910 г.) в «Антологии» издательства «Мусагет» (1911) (ПАСС III: 600).
-
4 В комментарии ПАСС к этому образу говорится «о гибельных разрушениях и бедствиях, которые обрушиваются как отмщение на всех “жестоких сердцем, далеких от правды”» с отсылкой к библейским пророкам: (Ис., XLVI. 12). (ПАСС III: 647). Такое толкование не раскрывает смысла образа и всего стихотворения.
-
4 Блок А. Записные книжки 1901 – 1920. М., 1965. С. 88–89.
Список литературы Лирический триптих А. Блока
- Блок А.А. Полное академическое собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. III. М., 1997. С. 43-44.
- Там же. С. 92.
- Там же. С. 264-266.
- Там же. С. 343-344.
- Там же. С. 643-647.
- Там же. С. 775-777.
- Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 4. М.; Л., 1961. С. 149.
- Блок А. Записные книжки 1901 -1920. М., 1965. С. 88-89.