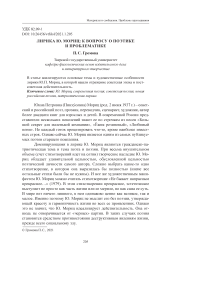Лирика Ю. Мориц: к вопросу о поэтике и проблематике
Автор: Громова Полина Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные темы и художественные особенности лирики Ю.П. Мориц, в которой нашли отражение советская эпоха и постсоветская действительность.
Ю. мориц, современная поэзия, советская поэзия, новая российская поэзия, патриотическая лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/146282242
IDR: 146282242 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.205
Текст научной статьи Лирика Ю. Мориц: к вопросу о поэтике и проблематике
Юнна Петровна (Пинху́совна) Мориц (род. 2 июня 1937 г.) – советский и российский поэт, прозаик, переводчик, сценарист, художник, автор более двадцати книг для взрослых и детей. В современной России представители нескольких поколений знают ее по строчкам из песен «Большой секрет для маленькой компании», «Ёжик резиновый», «Любимый пони». Не каждый готов процитировать что-то, кроме наиболее известных строк. Однако сейчас Ю. Мориц является одним из самых публикуемых поэтов старшего поколения.
Доминирующими в лирике Ю. Мориц являются гражданско-патриотическая тема и тема поэта и поэзии. При весьма внушительном объеме (счет стихотворений идет на сотни) творческое наследие Ю. Мориц обладает удивительной цельностью, обусловленной цельностью поэтической личности самого автора. Сложно выбрать какое-то одно стихотворение, в котором она выразилась бы полностью (иначе все остальные стихи были бы не нужны). И все же художественным манифестом Ю. Мориц можно считать стихотворение «Не бывает напрасным прекрасное…» (1979). В этом стихотворении прекрасное, эстетическое выступает не просто как часть жизни или ее мерило, но как сама ее суть. В мире нет ничего лишнего, в нем одинаково ценно как великое, так и малое. Именно поэтому Ю. Мориц не мыслит его без поэзии, утверждающей красоту и гармоничность жизни во всех ее проявлениях. Однако это не значит, что Ю. Мориц идеализирует действительность. Она отнюдь не отворачивается от «черных» картин. В таких случаях поэзия становится средством противостояния деструктивным явлениям жизни, прежде всего социальному злу.
В этом же стихотворении мы можем наблюдать характерные особенности поэтики Ю. Мориц, в частности, использование лексических повторов и многоуровневых рефренов, которые настраивают читателя на медитативный лад и придают стихотворениям заклинательный или молитвенный характер (что в данном случае закрепляется еще и финальной строкой). Вместе с тем благодаря подобной манере построения текст кажется обманчиво-небрежным, едва задуманным или проистекающим из живой, звучащей разговорной речи и выстраивающимся прямо на глазах у читателя: «Никак я не доеду до богемы, / Никак я до богемы не доеду, / Всё не доеду до неё никак!.. / Возникли с этим жуткие проблемы…» («Никак я не доеду до богемы…») [1]. За кажущейся легкостью, с которой якобы создается такое стихотворение, лежит большая авторская работа. Она становится очевидной, если обратить внимание на другие особенности лирики Ю. Мориц – например, на активное использование звукописи и обилие внутренних рифм и созвучий, что свидетельствует о тщательном подборе слов и построении стихотворной строки:
Нежнее памяти, которая во сне / Плывёт волнами Блаженства райского у яблок в глубине, / Играя с нами, Играя снами прежних жизней, тайных глаз / Во тьме и влаге, Что глубже нас, прекрасней нас, счастливей нас /И нашей тяги К тоске чудовищной по ясности вещей, / По лжи значений, В которых – точность казначеев, палачей, / Царящих мнений… («Нежнее памяти, которая во сне…») [Там же]
Еще одной особенностью лирики Ю. Мориц является языковая игра, например: «Ожерелье бомбократий / Ожирело и течёт…» («Жиртрест») [Там же]. Она не только характерна для ее взрослых стихотворений, но и зачастую становится основой произведений для детей («Лимон Малинович Компресс», «Валенок-Бываленок», «Хохотальная путаница» и др.). По наблюдениям критиков и исследователей, Ю. Мориц «великолепно играет словам, создавая из них новообразования (эпохоть, скво-озеро, люблю, сказанутый, жизнедрожь, можности и др.), рождающие довольно яркие образы современности. В ее непринужденной и легкой словесной игре переплетаются сотворяемое, полагаемое и даримое» [5, с. 115]. Впрочем, порой языковая игра выходит за пределы поэзии. Так, рассказывая о своем детстве, Ю. Мориц говорит: «В год моего рождения арестовали отца по клеветническому доносу, через несколько пыточных месяцев сочли его невиновным, он вернулся, но стал быстро слепнуть. Слепота моего отца оказала чрезвычайное влияние на развитие моего внутреннего зрения» [1].
Возможно, использование каламбура при описании столь драматичных событий кому-то покажется неуместным. Но Ю. Мориц всегда отличалась художественной смелостью, как в отношении проблемати- ки своих произведений, так и в отношении речи. Рассуждая о стихотворениях Ю. Мориц военной тематики, Л.Н. Тихомирова пишет: «Сопряжение высокой художественности и жизненной правды обеспечивает стихотворениям Мориц ощущение неподдельности, непритворности изображаемого» [2, с. 53]. Эти слова можно в полной мере отнести ко всему творчеству поэтессы, и именно это становится основой сильного художественного впечатления, которое производит лирика Ю. Мориц на читателя и которое не могло игнорироваться органами государственной власти. Так, после стихотворений «Кулачный бой» и «Памяти Тициана Табидзе» ее взрослая лирика была запрещена в печати с 1961 по 1970 г., публикация «Кулачного боя» в журнале «Молодая гвардия» стоила заведующему отделом поэзии Владимиру Цыбину его должности. Вместе с тем подборка детских стихов Ю. Мориц вышла в журнале «Юность» (1963).
Второй большой перерыв в публикациях приходится на 1990–2000 годы, когда в атмосфере общей социально-политической и культурной дезориентации Ю. Мориц вполне однозначно декларирует свою гражданскую позицию. Наиболее ярким произведением этого периода является, пожалуй, «Звезда сербости» (1999), написанная в качестве протеста против бомбардировки Белграда. Стихотворным строкам предшествует манифест в прозе, не оставляющий сомнений в позиции автора: «Мы – поэты планеты Земля – будем оптимизировать дух народов и стран, подвергающихся агрессии, психологическим войнам, принуждению к выбору: изоляция или капитуляция, принуждению к принципу: кто не с нами – тот нигде! <…> Мы дадим современникам и оставим потомкам самые отвратительные портреты сегодняшних “победителей”, называющих третью Мировую войну “защитой прав человека”. Мы превратим их в посмешище, мы знаем, как это сделать! <…> Мы – поэты планеты Земля – не дадим загнать человечество в зону страха, мы будем сбивать спесь с гегемонов и гегемончиков мощной струёй поэзии. С нами – Бог, Создатель, Творец!» [1] Жанр «Звезды сербости» определен автором как поэма. Однако это скорее цикл стихотворений с названиями и без, написанных разными размерами и с разной патетикой, от элегической до частушечной. В них Ю. Мориц активно использует окказионализмы, выражающие крайнюю степень неприятия автором происходящего: «гробовойска», «фашизофреник», «хавьерство», «америкосово» и др. Не брезгует автор и обсценной лексикой. Однако, чтобы наиболее точно и емко выразить в стихах свою позицию, такая лексика оказывается не нужна:
Я живу в побежденной стране, Чья борьба за права человека Упростила победу в войне За планету грядущего века.
Вот идет Победитель Всего, Поправляет Земли выраженье. Никогда на победу его
Не сменяю свое пораженье!.. [Там же]
В духе Ю. Мориц отзываться стихами на значимые социально-политические события. Одним из лучших в этом ряду является стихотворение «Другая Украина». Стихотворение имеет автобиографическую основу и потому звучит особенно искренне. Национальная трагедия воспринимается как глубоко личная и так же глубоко переживается: «Кончилась война, иду за хлебом, / Корка хлеба – счастье, без вранья! / Всю дорогу я слежу за небом, / Где бомбили Киев и меня» [Там же]. Ужас войны в том, что она становится обыденностью. Однако «Книжное дитя способно страхам / Лучезарно противостоять» [Там же], а также способно в открытую отстаивать честь и достоинство своей Родины.
Вместе с тем это стихотворение представляет собой пример недостаточного понимания автором собственного произведения. Тема и лирический сюжет исчерпываются в четверостишье: «У меня – другая Украина, / Вам такая – даром не нужна! / В этом я нисколько не повинна, / Каяться за это – не должна!» [Там же].
Однако автор продолжает стихотворение, смазывая концовку изменением тональности, неуместной звукописью и неудачным художественным образом: «Неповинна памяти лавина, / Горловина соловья нежна…» [Там же]. Сходные недостатки имеет стихотворение, посвященное гибели подводной лодки «Курск»:
Затонула субмарина, / Субмарина затонула, В Баренцевом субмарина / Затонула море… Затонули все отсеки, / Всех отсеков человеки, В человеках все отсеки / Затонули в субмарине В Баренцевом море. («Затонула субмарина») [Там же]
Привычные для Ю. Мориц рефренность и словесный эксперимент представляются в произведении о трагедии национального масштаба неуместными, даже неэтичными. А строки во второй строфе: «Затонули по-российски, / Не спасти их по-английски, / Не спасти их по-норвежски…» [Там же] могут быть прочитаны как аллюзия на начало пьесы Э. Ионеско «Лысая певица».
Гражданская тема в лирике Ю. Мориц в последние годы становится основной. Однако тема поэта и поэзии в ней продолжает развиваться и утверждаться. Кроме того, еще одной значимой темой в поэзии Ю. Мориц является тема любви. Она раскрывается на редкость деликатно («Твой свет доходит до меня…», «Люби меня – как я тебя…», «У меня было сто мужчин…» и др.). Ю. Мориц категорически против «любовной лирики, переходящей в порно», какой изобилует современная литература. Сфера личных отношений требует наивысших стандартов по меркам поэзии: «Но лирика любовная жива, / Когда у Пушкина в божественном глаголе – / “И делишь, наконец, мой пламень поневоле”, / За эту лирику и гибнут на дуэли, / Вершина лирики любовной такова!..» («О лирике любовной») [Там же].
Не чужда Ю. Мориц и интертекстуальность. В ее поэзии можно расслышать отзвуки античности, русской и зарубежной классики. О своих литературных учителях и пристрастиях Юнна Мориц говорит: «Моим современником был постоянно Пушкин, ближайшими спутниками – Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями – Андрей Платонов и Томас Манн» [Там же]. К своей поэтической среде она относит Блока, Хлебникова, Гомера, Данте, даже царя Соломона. Есть диалог и с «родственными душами» – например, с поэтом-композитором Б. Окуджавой. А ее стихотворение «Мы живём, под собою не чуя…» обыгрывает известные строки произведения О.Э. Мандельштама.
Наследуя Серебряному веку, с которым ее связь прочнее, чем с современным шестидесятничеством [4], Ю. Мориц находится в постоянном поэтическом поиске. С эстетикой символизма ее произведения объединяют многомерные поэтические образы, в которых сквозь повседневную действительность просматриваются законы бытия («Кулачный бой»). К акмеизму восходят неожиданные художественные решения, столкновение в одном образе высокого и низкого («Чем пахнет лошадь»). Близки Ю. Мориц и лингвистические эксперименты футуристов. Ю. Мориц не стремится к стилистической чистоте своих произведений, и они зачастую обладают публицистическими интонациями – как например, «остро политическое, с эксплицитными авторскими оценками» [3, с. 369] стихотворение «Новая нормальность». Иногда ее поэзия оказывается на грани литературного языка: «Спи, моя детка, / Под нами – планетка, / Где всех поимеют плохие парни» («Колыбельная без вранья») [1]. В своем творчестве она часто прибегает к использованию окказиональной лексики, особенно если речь заходит о поэтической деятельности. На свет появляются такие слова, как «стихотворить», «стихотворильня», «стихотворейцы», «поэтствовать» и др., а саму себя Ю. Мориц называет «поэткой». Таким образом, можно говорить, что поэзия Ю. Мориц не столько продолжает традицию какого-то литературного направления Серебряного века, сколько впитала энергию модернизма в целом.
Несмотря на то что прошло уже тридцать лет с тех пор, как российский книгоиздательский рынок претерпел коренные изменения, процесс «возвращения» некогда утраченной литературы продолжается до сих пор. Поэзию Юнны Мориц, пожалуй, тоже можно отнести к разряду «возвращаемой», поскольку именно сейчас она наконец обретает читателя соответствующего масштаба – русского человека.
Список литературы Лирика Ю. Мориц: к вопросу о поэтике и проблематике
- Мориц Ю. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Openwomenline. URL: http:/www.owl.ru/morits/ (дата обращения: 28.09. 2020).
- Тихомирова Л.Н. "Чудный свет на всю судьбу проливает детство…" (документальное начало в поэзии Юнны Мориц) // Челябинский гуманитарий. 2012. № 3 (20). C. 48-54.
- Федяева Н.Д., Демченков С.А. Неологизм "новая нормальность" в контексте свойств нормы // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 5 (60). С. 368-370.
- Фетисова Е.Э. Юнна Мориц: "Московский" неоакмеизм как "Ренессанс" акмеизма // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2013. № 20 (121). С. 136-149.
- Яковлева Е.Л. Антигламурное сквоозеро поэтки, или чистая лирика сопротивления Юнны Мориц // Культура и искусство. 2017. № 5. С. 112-124.