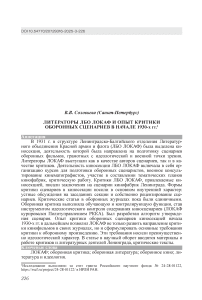Литераторы ЛБО ЛОКАФ и опыт критики оборонных сценариев в начале 1930-х гг.
Автор: В.В. Соловьева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В 1931 г. в структуре Ленинградско-Балтийского отделения Литературного объединения Красной армии и флота (ЛБО ЛОКАФ) была выделена киносекция, деятельность которой была направлена на подготовку сценариев оборонных фильмов, грамотных с идеологической и военной точки зрения. Литераторы ЛОКАФ выступали как в качестве авторов сценариев, так и в качестве критиков. Деятельность киносекции ЛБО ЛОКАФ включала в себя организацию курсов для подготовки оборонных сценаристов, военное консультирование кинематографистов, участие в составлении тематических планов кинофабрик, критическую работу. Критики ЛБО ЛОКАФ, привлекаемые киносекцией, писали заключения на сценарии кинофабрик Ленинграда. Формы критики сценариев в киносекции носили в основном внутренний характер: устные обсуждения на заседаниях секции и собственно рецензирование сценариев. Критические статьи в оборонных журналах пока были единичными. Оборонная критика выполняла обучающую и контролирующую функции, став инструментом идеологического контроля содержания киносценариев (ЛОКАФ курировался Политуправлением РККА). Был разработан алгоритм утверждения сценария. Опыт критики оборонных сценариев киносекцией начала 1930-х гг. в дальнейшем позволил ЛОКАФ не только развить направление критики кинофильмов в своих журналах, но и сформулировать основные требования критики к оборонному произведению. Эти требования носили преимущественно идеологический характер. В статье в научный оборот вводятся материалы о работе критиков и литературных деятелей Ленинграда, критические тексты.
ЛОКАФ, оборонная критика, оборонная литература, оборонное кино, литература и идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/149149392
IDR: 149149392 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-226
Текст научной статьи Литераторы ЛБО ЛОКАФ и опыт критики оборонных сценариев в начале 1930-х гг.
LOKAF; defense criticism; defense literature; defense films; literature and ideology.
Целью деятельности созданного в 1930 г. Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ) была обозначенная в его Уставе «пропаганда в художественной форме задач обороны страны» (цит. по: [Сысоева 2022, 279]), что отражало актуальный политический контекст эпохи великого перелома в СССР, центральным тезисом которой стало «обострение противоречий между СССР и окружающим капиталистическим миром». Как отмечает Е.А. Добренко, в этот период с советской литературной критикой произошли две важные метаморфозы: государственная институционализация и политическая инструментализация [Добренко 2011, 146], т.е. критика превращалась из инструмента литературной борьбы в инструмент контроля за культурой. Оборонная критика (самоназвание, использовавшееся членами ЛОКАФ) была нацелена на контроль за политической и военной правильностью создаваемых произведений о Красной армии и флоте. ЛОКАФ вело работу с писателями, поэтами, критиками, сценаристами и драматургами – как начинающими, так и профессиональными.
Становлению советской литературной критики на рубеже 1920–1930-х гг. посвящены работы Е.А. Добренко [Добренко 2011], Н.В. Корниенко [Корниенко 2011], Х. Гюнтера [Гюнтер 2011] и др.; различным аспектам оборонной литературы и деятельности ЛОКАФ – труды В.А. Шошина [Шошин 2006], Е.А. Добренко [Добренко 2000], А.В. Сысоевой [Сысоева 2022] и А.О. Бурце- вой [Бурцева, Сысоева 2023]. Литературно-критическая деятельность ЛОКАФ рассматривалась в диссертации З.С. Закружной [Закружная 2019], там же затронут вопрос работы киносекции объединения.
Интерес литературного объединения к кинематографу был связан, во-первых, с пониманием более широких возможностей последнего в «мобилизации сознания масс», во-вторых – с относительной близостью литературы и кино, поскольку основная ответственность за политическую «грамотность» фильма в рассматриваемый период возлагалась не столько на режиссеров, сколько на сценаристов. Киносценарий рассматривался, в первую очередь, как литературное произведение, созданное писателем. Масштаб деятельности ЛОКАФ в сфере кино, безусловно, уступает тому, что делалось объединением в оборонной литературе (см. например: [Закружная 2019; Сысоева 2022]), однако опыт работы киносекции ЛОКАФ на локальном уровне позволяет увидеть, что именно оборонные критики считали обязательным не только для киносценария, но и любого литературного произведения на оборонную тематику.
О необходимости военизации кинематографии говорилось на страницах выпускавшегося ЛБО ЛОКАФ журнала «Залп»:
Мобилизация кинематографии на службу обороны должна начаться… с общей идеологической перестройки… Надо пересмотреть тематические планы фабрик и всю систему сценарных заказов под углом выполнения оборонных задач [Рафалович 1931, 52].
Отмечалось, что в кинематографе оборонная тематика показывалась только на примере гражданской войны, отсутствовали фильмы о современности Красной армии и флота, имела место «вопиющая политическая и военно-техническая неграмотность кино» [Дьяконов 1932, 56].
В фондах ЛБО ЛОКАФ отложились материалы работы киносекции, которые, на наш взгляд, возможно отнести к критическим текстам: внутренние рецензии на оборонные фильмы, стенограммы обсуждения фильмов на заседаниях киносекции. Они предшествовали критическим статьям, появлявшимся на страницах печатных органов ЛОКАФ – журналах «Залп» и «ЛОКАФ» (с 1933 г. – «Знамя»). Не все работы были опубликованы, их спецификой была ориентация на конкретного автора, который не становился, в отличие от текстов изданных, примером для многих. Заключения на киносценарии писали такие члены ЛОКАФ, как А.А. Дьяконов (председатель киносекции), Ф.С. Князев, Я.А. Калнынь и другие.
Киносекции создавались при местных отделениях ЛОКАФ, наиболее крупные – в Москве и Ленинграде. Киносекция Ленинградско-Балтийского отделения фактически начала работу в августе 1931 г. (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 1), временное положение о ее работе было утверждено Президиумом ЛОКАФ в ноябре 1931 г. [От оборонной литературы к творчеству Пушкина… 2024, 301]. С одной стороны, предполагалось, что за оборонные киносценарии возьмутся писатели, входившие в ЛОКАФ. Как отмечает З.С. Закружная, в работу Ленинградской киносекции включились Н. Тихонов, С. Михайлов, В. Саянов, Л. Соболев, А. Дмитриев, В. Кнехт, С. Галышев и В. Ганибесов [Закружная 2019, 234]. Одновременно планировалось обучать сценаристов кинофабрик работе над оборонными сценариями, а также привлекать к написанию сценариев военных.
В положении о киносекции ЛБО ЛОКАФ целью ее деятельности было названо «обеспечение выпускаемой ленинградскими кинофабриками оборонной продукции в области оборонно-художественной и оборонно-пропагандистской фильмы материалом, дающим марксистско-ленинское понимание войны и показывающим действительное лицо Красной армии…» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 210. Л. 1).
Киносекция курировалась непосредственно Политуправлением РККА, представители которого входили в секретариат ЛОКАФа. В Бюро секции вошли не только члены ЛОКАФ, но и представители кинофабрик (Ленинградской и Белорусской), Ленинградской ассоциации работников кинематографии (Ленаркк) (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 1). На расширенные заседания приглашались представители Политуправления Ленинградского военного округа, Военно-политической академии имени Н.Г. Толмачева и Военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, представители красноармейских частей, Домов Красной Армии, а также Всероскомдрама (творческого объединения композиторов и драматургов, действовавшего в 1929–1933 гг.) (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 212. Л. 7). Таким образом киносекция пыталась соединить в одном месте всех экспертов, которые могли бы оказать консультирование в создании «оборонного фильма» – военных, «политических работников», кинематографистов, драматургов, писателей и критиков.
Фактически ключевым направлением работы киносекции стала попытка установить собственный идеологический контроль над содержанием кинофильмов на военную тематику. Основным инструментом этого контроля стала оборонная критика. В положении о киносекции говорилось о том, что «в случае появления на кино-рынке фильм, не отвечающих основным установкам секции… киносекция считает своей политической задачей возбуждение перед соответственными политорганами ходатайства о немедленном изъятии таких фильм из оборота» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 210. Л. 1). На практике это реализовывалось через написание заключений на киносценарии и участие в планировании военно-оборонной тематики кинофабрик. Между киносекцией и кинофабриками заключался договор, по которому кинофабрики обязались «как сценарный военно-оборонный материал, так и самую продукцию, поступившую на фабрику путями, не предусмотренными настоящим договором, пускать в производство лишь после заключения кино-секции ЛОКАФа» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 216. Л. 1–1 об.). ЛОКАФ при этом обязался все заказанные ему сценарии пропустить через общественные читки в частях и учреждениях Ленинградского гарнизона.
К январю 1932 г. киносекция просмотрела 16 сценариев, провела 2 общественных читки и 3 общественных кинопросмотра (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 221. Л. 24 об.). Также киносекция оказывала содействие кинематографистам, договариваясь о направлении их в воинские части и на военные корабли для написания сценариев. Отдельным пунктом сотрудничества стало предоставление кинофабрикам военных консультантов для работы над сценарием и фильмом, о деятельности которых было выработано отдельное положение (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 210. Л. 5). В качестве военных консультантов киносекция приглашала по своему усмотрению военных и военно-политических работников, как членов ЛОКАФ, так и со стороны.
К 1932 г. был утвержден порядок пуска в производство сценариев военно-оборонных фильмов. Каждый сценарий до пуска в производство должен был быть пропущен через «армейскую общественность», воинские части (обо- ронно-художественный сценарий) или через специальные военные учреждения (военно-учебный и военно-агитмассовый сценарий). Затем сценарий должен быть обязательно утвержден Военным сектором Союзкино и Управлением производства фильмов. Режиссерский сценарий с внесением всех поправок и изменений в копии высылался в Военный сектор Союзкино (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 223. Л. 54).
Заключения по сценариям составлялись членами ЛОКАФ и утверждались председателем киносекции. Из уже упомянутых 16 рассмотренных в 1931 г. сценариев, 8 было отклонено, остальные нуждались в доработке – «то военно-технический момент, то политический момент представлен плохо» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 13). Критические разборы сценариев и фильмов озвучивались и на заседаниях киносекции.
12 января 1932 г. председатель киносекции А.А. Дьяконов выступил на очередном заседании с «расширенным критическим обзором оборонного фильма», в котором отметил основные слабые места кинопродукции. Во-первых, упрощенность показа Красной Армии: «боец Красной Армии представлен внеклассовым солдатом, отличительной особенностью которого являлся только шлем на его голове», тогда как нужно показывать сложную систему политработы в армии, «высокое классовое и интернациональное сознание, которое характеризует красноармейца» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 7–7 об.). Во-вторых, упрощенный показ врага, который чаще всего показан «разлагающимся»: «эти постоянные кутежи, пьянки в кабаках, полуголые женщины, отсутствие организованности, отсутствие показа обостренной классовой борьбы… что снижает значение врага» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 8). В-третьих, показ партийной работы через «одиночку-партийца», а не через сильную партийную организацию (к/ф «Города и годы» и «Высота 88,5»). В-четвертых, женские типажи: «женщина революционерка упрощена до неузнаваемости, получается схема в красном платке» (например, в к/ф «Красные дьяволята» и «Сорок первый»). В-пятых, батальные сцены: «почти во всех фильмах это бестолковая сумятица, не чувствуется тактического руководства, которое бы возглавляло движение людей» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 9).
Знаковым для эпохи было требования при показе событий Гражданской войны (и вообще исторических событий в целом) учитывать особенности современного «реконструктивного» периода. Например, к/ф «Разгром» (реж. Берсенев, 1931 г.) критиковался за «непонимание истории Гражданской войны с точки зрения реконструктивного периода». «Неверным» назывался показ образа Левинсона, который «слишком копается в себе» и, с точки зрения реалий начала 1930-х гг., должен был бы «саморазоблачиться» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 10 об.). Также кинематограф в целом критиковался за то, что он «не поспевает» за событиями. Так, советско-китайский конфликт на КВЖД произошел в 1929 г., кинохроника появилась в 1930 г., сценарий художественного фильма «Мост» был заявлен в 1931 г., а выход на экран планировался в конце 1932 г. Промежуток в три года расценивался как слишком большой. (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 13).
Одним из наиболее обсуждаемых фильмов на оборонную тематику в рассматриваемый период стал фильм «Высота 88,5» (реж. Ю. Тарич, авторы сценария Ю. Берман, Б. Верховский), действие которого разворачивалось в условиях возможной войны и мобилизации, а главными героями стали комсомольцы-осоавиахимовцы. Картина была высоко оценена киносекцией, которая в постановлении от 1 октября 1931 г. назвала ее «по ху- дожественному оформлению стоящей значительно выше однотипных оборонных фильм прежних выпусков» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 212. Л. 4). При этом критики отметили ряд ошибок сценария. Так, указывалось на неверный стратегический показ развертывания Красной армии в первый период войны, в котором красная дивизия оказалась в окружении в результате «увлечения преследованием противника». Отмечалось, что «анархистская» фигура командира дивизии, нарушившего связь и допустившего окружение дивизии, противоречит основному пониманию роли командира в РККА. По мнению критиков, сценарий упускал из виду существование парторганизаций в армии. Отдельно подчеркивались «ляпсусы» в показе военных действий: движение в атаку танков с открытыми люками, движение во главе действующего в боевой обстановке мотоотряда командира отряда в легковой машине, стрельба по танкам из винтовки на дистанции прямого выстрела, отсутствие показа борьбы с техникой противника и др. (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 212. Л. 4 об.). По следние претензии критики отно сили к работе военной консультации, которую обеспечивал ЛОКАФ. В качестве выхода из ситуации Бюро киносекции предполагало ходатайствовать перед Политуправлением об издании директивы, ужесточающей ответственность военного консультанта.
Судя по материалам заседаний киносекции, кинематографисты в целом позитивно оценивали взаимодействие с ЛОКАФ, однако вместе с тем отмечали ограниченность помощи объединения. Так, режиссер Ю. Тарич говорил на заседании 12 января 1932 г.:
…тематическую заявку мы рассматриваем в ЛОКАФе, разбираем, определяем, когда выйдет картина, будем ее ругать, оценивать, хвалить, но вот режиссер получает апробированный сценарий, выезжает в часть, и тут начинается <…> у меня, мол, своя работа, чего вы, кинематографисты, суетесь? (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 27 об.);
…нам нужны не только советы ЛОКАФа по окончанию режиссерской работы, нам нужна реальная помощь, нужен соответствующий приказ по военным частям для того, чтобы <…> нам оказывалось полное содействие, полное внимание. А то нам нужно, например, показать мощь красной армии для патетического большого конца, а нам дают два взвода и одну двуколку (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 211. Л. 28).
Положительное заключение киносекция дала на сценарий В. Голованова и В. Басова «Беглецы» (реж. Ю. Тарич), действие которого опять же разворачивалось в условиях предполагаемой войны:
Сценарий показывает истинное лицо Красной Армии, отвечающей на единичное проявление дезертирства геройским отражением ночного нападения противника и вступлением в партию передовых красноармейцев. Показывает интернациональное единение рабочего класса <...> В отличие от многих военных сценариев настоящий сценарий является грамотным в военном отношении. В сценарии отображена работа партполитаппарата и политическое обеспечение боевой операции (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 218. Л. 1–2).
Однако к/ф «Беглецы» не вышел в прокат. По-видимому, фильм получил отрицательную рецензию на следующих этапах. Так, в дальнейшем о фильме писалось:
…не вскрыв причины дезертирства, источников его, не показав классовой природы дезертирства, авторы фильма скатились до упрощенчества, грубой схемы в художественной трактовке образов и тем самым расслабили художественную мощь произведения (цит. по: [Марголит, Шмыров 1995, 29]).
Наибольшую известность из рассмотренных киносекцией сценариев получил «Мост» («Люди ОКДВА»), вышедший на экраны в 1933 г. под названием «Моя Родина» (реж. И. Хейфиц, А. Зархи, авторы сценария М. Блейман, И. Хейфиц, А. Зархи). На заседании киносекции 2 октября 1931 г. сценарий был зачитан И. Хейфицем (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 218. Л. 16). В основе сюжета были события советско-китайского конфликта на КВЖД в 1929 г. Главный герой фильма – китаец Ван, воевавший в армии Гоминьдана, попадает в советский плен, где видит гуманное отношение со стороны красноармейцев (которые изучают китайский язык, чтобы разговаривать с пленными), у него просыпается «классовая сознательность», после чего он убивает офицера армии Гоминьдана, а в финале фильма вместе с другими крестьянами и батраками провожает советских бойцов как братьев. Таким образом, фильм соответствовал запросу на показ «живых людей» и «интернациональной сущности» Красной Армии (например, красноармеец за «шовинистические» высказывания о китайцах получает от командира два наряда вне очереди).
Бюро киносекции постановило «считать сценарий заслуживающим глубочайшего внимания и настаивать (с учетом внесенных корректив) на быстрейшем продвижении его в производство; считать, что картина “Мост”… может явиться первой настоящей полноценной картиной из цикла военных фильм; картину “Мост” приравнять к оборонной продукции и всячески содействовать бригаде в ее работе» (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 218. Л. 16). Вторая читка произошла на расширенном заседании киносекции 15 октября 1931 г., отзывы о сценарии также оказались положительными (РО ИРЛИ. Ф. 498. Оп. 1. Д. 218. Л. 17–18).
Выход фильма был приурочен к 15-летию Красной Армии. Еще до премьеры «Комсомольская правда» напечатала серию приветственных материалов, в том числе начальника Главного управления кинопроизводства Б.З. Шумяцкого. Однако в марте 1933 г. фильм был запрещен к прокату. Ранее написанные отзывы были оценены как «некритические» и «дезориентирующие». Б.З. Шумяцкий признал, что выпуск картины был несомненной политической ошибкой киноруководства, что картина «системой своих образов дает карикатуру на новых людей советской страны, изображая их каких-то бесхарактерных и безвольных» (цит. по: [Марголит, Шмыров 1995, 34–35]). По воспоминаниям И. Хейфица, режиссеры фильма были вызваны в Москву в Политуправление РККА, где их ошибка была объяснена так: «Недавно на Политбюро товарищ Сталин сказал, что на удар поджигателей войны мы ответим тройным ударом. В вашей фильме тройного удара в ответ на провокацию гоминьдановских войск нет, это – толстовство» [Хейфец 1990, 103]. Режиссер предполагал, что фильм был снят с проката по личному указанию И.В. Сталина.
Таким образом, оборонная критика осуществляла воспитательную и идеологическую функцию, показывая, каким должно быть изображение героев и врагов, как должны показываться военные действия. Заключения на киносценарии и обсуждения фильмов на заседании киносекции ЛБО ЛОКАФ содержали выводы о достоинствах и недостатках сценария с политической и военной точки зрения, что позволяло рекомендовать или не рекомендовать фильм к дальнейшей работе. Замечания критиков касались скорее идеологических, чем эстетических вопросов. Основными требованиями, которые можно считать общими для критики оборонного произведения, были: обязательный показ политической работы в армии, убедительность образа героя и врага, достоверность деталей в показе боевых действий и повседневной жизни армии и флота. Практиковались разные способы «обратной связи» на произведение: устные обсуждения зрителей, военных специалистов, критиков, написание внутренних рецензий, публикация критических статей. Собственно критические статьи были малой частью работы, отражая основные установки киносекции в печати (см. например: [Дьяконов 1932]). Однако опыт, накопленный критиками ЛОКАФ в начале 1930-х гг. способствовал развитию направления критики кинофильмов и появлению во второй половине 1930-х гг. критических разборов кино в журнале «Знамя».