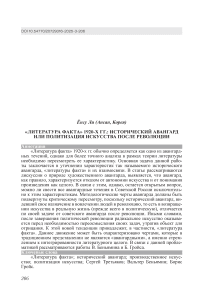«Литература факта» 1920-х гг.: исторический авангард или политизация искусства после революции
Автор: Ёнсу Ли
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
«Литература факта» 1920-х гг. обычно определяется как одно из авангардных течений, однако для более точного анализа в рамках теории литературы необходимо пересмотреть ее характеристику. Основная задача данной работы заключается в уточнении характеристик так называемого исторического авангарда, «литературы факта» и их взаимосвязи. В статье рассматриваются дискуссии о природе художественного авангарда, выявляется, что авангард, как правило, характеризуется отказом от автономии искусства и от понимания произведения как целого. В связи с этим, однако, остается открытым вопрос, можно ли свести все авангардные течения в Советской России исключительно к этим характеристикам. Методологические черты авангарда должны быть подвергнуты критическому пересмотру, поскольку исторический авангард, видевший свое назначение в вовлечении людей в революцию, то есть в возвращении искусства в реальную жизнь (прежде всего в политическую), отличается по своей задаче от советского авангарда после революции. Иными словами, после завершения политической революции радикальное искусство оказывается перед необходимостью переосмысления своих задач, утратив объект для отрицания. К этой новой тенденции принадлежит, в частности, «литература факта». Данное движение может быть охарактеризовано чертами, которые в традиционном представлении не являются «авангардными», а именно стремлением к интегрированности литературного целого. В связи с данной проблематикой рассматриваются работы В. Беньямина и Б. Гройса.
«Литература факта», исторический авангард, производственное искусство, политизация искусства, Сергей Третьяков, Вальтер Беньямин, Борис Гройс
Короткий адрес: https://sciup.org/149149390
IDR: 149149390 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-206
Текст научной статьи «Литература факта» 1920-х гг.: исторический авангард или политизация искусства после революции
Literaturа Factа ; historical avant-garde; productivist art; politicization of art; Sergey Tret’yakov; Walter Benjamin; Boris Groys.
Являющийся предметом нашего интереса феномен раннесоветского движения «литература факта» может быть рассмотрен лишь после разрешения вопроса о возможности его включения в предметное поле теории литературы. Данное движение возникло как литературный ответ на требования теории «производственного искусства» 1920-х гг., которая предполагала применение искусства в повседневной жизни и производстве и была теоретически обоснована в области литературы Сергеем Третьяковым и рядом других его единомышленников.
Прежде чем перейти к углубленному анализу, нам необходимо хотя бы поверхностно провести диагностику тематической релевантности этого движения. Хотя задача с детальным исследованием степени соответствия или расхождения заявлений его представителей с теорией литературы выходит за рамки данной работы, можно утверждать, что в строгом смысле оно не может быть настоящим объектом изучения теории литературы, поскольку ему в значительной степени недостает условий, в которых существует искусство, соответствующих «минимуму», присущему полноценному объекту исследования – «шедевру», а именно: законов условности, целостности, оригинальности и суггестивности (см.: [Тюпа 2024]). «Литература факта» отвергает необходимость вторичной (то есть воображаемой) реальности как переживания переживаний [Бахтин 1986, 297], не требует эстетической завершенности и обрам- ления текста, а стремится вовлекаться в реальность. Также она утверждает, что литература должна «производиться» буквально «всеми людьми», а не гениальностью ее автора. Более того, представители «литературы факта» отвергали художественный вымысел, стремясь полностью объединить письмо (и чтение) с реальностью. Говоря кратко, они требовали полного упразднения художественного мира.
Тем не менее исследование данной темы полезно для дальнейшего развития теории литературы. С точки зрения исторической поэтики, возникновение подобных альтернативных литературных движений соотносится с кризисными моментами эстетического творчества, корнями уходящими в XVIII в. Как указывал Бахтин, этот кризис не является однородным феноменом [Бахтин 1986, 186–191]. Различные направления модернизма и художественного авангарда по-разному взаимодействовали с ним, и «литература факта» может рассматриваться как одна из попыток, завершившаяся неудачей, предложить его разрешение в условиях кризиса творчества в культуре XX в. Следовательно, мы должны подходить к данному феномену с учетом того, что в рамках теории литературы он до сих пор почти не рассматривался.
Основной проблематикой данной статьи является выяснение соотношений художественного авангарда и «литературы факта». Генетически последняя обычно рассматривается как одно из ответвлений первого, и схематически можно представить их соотношение в виде последовательности: авангард – «производственное искусство» – «литература факта». Однако, несмотря на несомненность взаимной связи последних двух (см.: [Мазаев 1985, 187–189; Заламбани 2006, 12]), в данной работе под вопрос ставится общепринятая трактовка соотношения между авангардом и «литературой факта». Пространственно-временная специфика Советской России усложняет включение данного движения в общий ряд художественных течений начала XX в., объединяемых под понятием «исторический авангард». Это объясняется тем, что рассматриваемый нами феномен требует учитывать в бинарных оппозициях, традиционно определяющих авангард (например, «автономия искусства – ориентация на реальность»), третий элемент – острый, динамичный, изменчивый политический контекст. В этом ключе, исходя из допущения о возможности проблематизации «литературы факта» в рамках теории литературы, данная статья стремится предложить ее корректное позиционирование.
Большинство исследователей согласится с тем, что основной чертой авангарда является отрицание традиционной эстетики. В.И. Тюпа отмечает, что точка отправления художественного авангарда находится в альтернативности сознаний субъекта и адресата. По его словам, в рамках этой культурной парадигмы «кругозоры моей и любой иной субъективности принципиально несовместимы, в коммуникативном событии они взаимно отвергаются, освобождаясь при этом от груза авторитарности и обретая суверенную свободу самоутверждения» [Тюпа 2009, 110–111]. Это объясняет, откуда берется воля к освобождению, которая последовательно обнаруживается в авангардных практиках. Для обретения суверенной свободы авангарду всегда требуется объект, который он отрицает.
Петер Бюргер дает похожее объяснение. По его мнению, суть авангардных практик заключается в том, что они разрушают органичность традиционной эстетики и применяют стратегию фрагментации. «Классик обращается с материалом как с некой цельностью», тогда как «авангардист вырывает его из жизненной целостности, изолирует и фрагментирует» [Бюргер 2014, 110]. По словам автора, авангард характеризуется отказом от целостности произведения, от автономии искусства. Таким образом, адресат переживает революционный опыт, соединяющий знаковость произведения с практикой реальности. Разумеется, что при этом разрушается органическая подчиненность частей целому в произведении. В этом плане можно сказать, что разрушение целостного контекста является ключевой стратегией художественного авангарда.
Приведенные выше размышления ставят перед нашей работой главный вопрос: если художественный авангард характеризуется «методом отрицания», осуществляемым через разрыв контекста, все еще остается ли он авангардом, когда утрачивает такой метод? Для решения данного вопроса мы прежде всего обратимся к знаменитой дихотомии Беньямина – «эстетизация политики и политизация искусства» [Беньямин 1996, 99], поскольку критическое переосмысление этой формулировки позволит принципиально заново осмыслить соотношение между самоопределением художественного авангарда в его политической роли и его методом.
Беньямин пишет, что фашизм совершает эстетизацию политики, тогда как при коммунизме политика никогда не должна эстетизироваться, скорее, эстетика (искусство) должна политизироваться. В дополнение к этому можно сказать, что политическая революция скорее стремится к эстетизации экономики. Иными словами, задача революционной власти определяется теоретической реорганизацией материальных основ, то есть способа производства (Produktionsweise). Анализ Е. Добренко подтверждает это:
…если в фашизме эстетизации подверглась политика, то в социализме процесс зашел глубже – эстетизации подверглась экономика. Заметим попутно, что экономика социализма по необходимости требует большей эстетизации, чем при капитализме [Добренко 2007, 71–72].
Исходя из этого, можно определить направление коммунистического проекта – эстетизация экономики. Политика эстетизирует экономику, являющуюся «базисом» (в марксистском понимании), а также политизируется искусство. Как отмечает Бак-Морс, эстетизация политики в беньяминовском понимании означает риторическую репрезентацию реальности, которая часто ведет к политическому манипулированию (см.: [Buck-Morss 1989, 140–142]). Политизация искусства, с другой стороны, представляет собой восприятие приема, сосредотачивающееся на форме технологии. Она одновременно выполняет две функции: выявляет освободительный потенциал формы и раскрывает политическую реальность, искажающую эффекты формы.
В эссе Беньямина «Автор как производитель» Сергей Третьяков, представитель «литературы факта», упоминается как образцовый «тип оперирующего писателя» [Беньямин 2012, 144], который выполняет именно такие функции. Однако нам кажется, что с данным эссе (точнее – с любым авангардистским литературным движением) связана определенная проблема, которая заключается в том, что они созданы и существуют в условиях, где революционный момент еще не наступил. Иными словами, «политизация искусства» Беньямина, а также большинство авангардных практик и стратегий вроде бы призывают к способствованию политической революции, но недостаточно говорят о том, каким должно быть искусство после нее. Здесь нам видится недостаток беньяминовского подхода. Если свержение старой власти – это историческое событие, а задача революции (эстетизация экономики) – это длительный про- цесс, то каковы будут отношения между властью и авангардом? М. Заламбани задается тем же вопросом: «…после Октябрьской революции все выглядело иначе. Капиталистический строй уже свергнут: как же теперь приспособить бунтарскую литературу к Государству, ставшему на мирный путь строительства?» [Заламбани 2006, 7].
В данном случае авангард сталкивается с необходимостью переориентировать цель. В книге «Gesamtkunstwerk Сталин» Б. Гройс рассматривает не только проблемы, существующие до политической революции, но и проблемы «после» нее. Его книга о напряженных отношениях между искусством и политикой представляет собой описание борьбы за власть между двумя силами, имеющими одинаковую цель.
По мнению Гройса, упадок авангарда начался с введения НЭПа, в результате которого на художественном рынке сформировалась новая читательская аудитория. И реакцией на это стало «производственное искусство». Авангард начал выполнять лишь ограниченные функции в пределах, поставленных политической властью, и вот почему «приоритет искусства» больше не востребован [Гройс 2013, 48]. Упрощенно говоря, попытка достижения искусством власти завершилась неудачей, и «производственное искусство» оказало сь оттесненным социалистическим реализмом.
Такие утверждения в значительной степени основаны на фактах и убедительны. Однако проблема анализа Гройса состоит в совершенности самой логики его повествования: автор тщательно конструирует образ авангарда в вероятном нарративе о борьбе за власть. Во-первых, он видит в нем не методологическое сходство, а совершенную тождественность целей авангарда и политического искусства. «Запрос художников на право на художественные материалы и запрос на власть» в конечном итоге оказываются совершенно одинаковыми, поэтому политика и искусство изображаются как два субъекта, борющиеся на одном уровне. В данном случае они показаны фактически как взаимозаменяемые, и из-за отсутствия их дифференцирования оказывается невозможным разграничить черты, волю и цели авангардных художников и политических революционеров.
Во-вторых, автор олицетворяет авангардные практики. Гройс описывает авангард как живой организм, как единую волю. Тогда как многие тенденции авангарда воспринимаются как различные вариации одного субъекта. Проблема такого чрезмерного упрощения заключается не в том, что оно не дает каждому автору должного «голоса». В действительности многие авангардисты были связаны друг с другом, сотрудничали, спорили и принадлежали к одному дискурсу.
Настоящая опасность описания авангарда как единого целого заключается в том, что остается только одна возможность его объяснения. Другими словами, для Гройса внутренняя логика авангарда остается постоянной и поэтому неизбежно заставляет понимать перемены в рамках авангарда как некие конъюнктурные реакции.
Нужно помнить, что повторяемое Гройсом утверждение о «служащем материалом мире» [Гройс 2013, 19] является итоговым диагнозом исследователя. Действительно ли у авангардистов было стремление к власти в реальной политике, считали ли они себя «творящими мир», – это уже другой вопрос. И если это не так, то можно сказать, что утверждение Гройса способствует тому, чтобы свести дело лишь к нарративу политической борьбы за власть. По его мнению, все данные, взятые непосредственно из жизни, рассматриваются как
«пропагандистский аппарат» [Гройс 2013, 51]. Проблема может оказаться не такой уж простой, и в той же мере, в какой видит Гройс авангард как власть, мы должны видеть его как искусство.
Единственное, что явно и последовательно выражается в практике авангардистов, – несмотря на разнообразие всяких ее тенденций – это отрицание существующей эстетики. И чем дальше, тем сильнее он оказывался связан с проблемами политической власти, то есть со злободневными вопросами революционной ситуации в раннесоветской России. Иными словами, на поверхностном, а не на метадискурсивном уровне для позднего авангарда важны были политические вопросы. Как утверждает Гройс, авангардисты стали сотрудничать с партией, но они скорее серьезно и настойчиво размышляли о том, как искусство может внести свой вклад в решение данных вопросов.
По заявлению О. Брика, «так называемый “формальный метод”» требовал «изъятия поэтических ценностей» [Брик 1923, 213], то есть отказа от эстетических критериев художественности. Тем не менее еще одно радикальное свержение, предложенное сторонниками «производственного искусства», выглядит настолько отличным от предыдущих отрицаний, что представляется окончательным. То, что характеризует «производственное искусство», – это крайность его отрицания творческой специфики эстетической деятельности. С этого момента художественный авангард, который рассматривался – по крайней мере – в рамках искусства, в итоге стал жертвовать своими характеристиками, отличающими его как искусство от других видов человеческой деятельности. Он стал жертвовать самой художественностью, стирая границу между двумя разными функциональными стилями: художественным письмом и публицистикой.
В рамках заданного нами вопроса, такую крайность можно рассматривать как окончательный этап «политизации искусства», задача которого больше не имеет ничего общего с задачей эстетизации экономики. Это исчерпание последней степени отрицания: авангард больше не может существовать как стратегия, так как он полностью устраняет свою принадлежность к творческой деятельности. Экстремальное положительное отношение «литературы факта» к описательности может быть обусловлено именно этим. Другими словами, ориентация так называемого «авангарда» скорее возвращается от фрагментации к описательности, от поэтического «остранения» к прозаичности, от сдвига контекста к тотальному описанию контекста. Фактически, пока большевики продолжали «делать экономику остраненной», метод художественного авангарда, стремящегося к сотрудничеству с властью, на глубинном уровне начал эволюционировать в противоположном направлении.
Подводя итог, можно сказать следующее: указанные тенденции отмечены более радикальным чем прежде отрицанием, но на глубинном уровне они означают отказ от радикальной стратегии авангарда. Вопреки тому, что Гройс понимает данный процесс как разнообразные реакции единого субъекта, мы видим на примере практики «литературы факта» ее качественное отличие от других «авангардов». Как художественная практика она радикализировала установку на отрицание. Как политическая практика – преобразила задачу отрицания в задачу утверждения. В общем, как можно понять из амбивалентности данных отрицания и утверждения, по крайней мере, название «литература факта» не всегда несет в себе иронию.
Разумеется, в строгом смысле практика представителей «литературы факта» не может быть признана «художественной литературой». Но стратегия данного движения и заключалась в том, чтобы по-другому представить и определить литературность, по словам Третьякова, исходя из «охвата событий, их синтеза и директивы» [Третьяков 1927, 37]. «Литература факта» стремились к другой версии тотального образа мира, преодолевая стремление традиционной литературы к созданию воображаемых миров.
Если литература «нон-фикшн», не принадлежащая к эстетической деятельности, «предлагает субъективные свидетельства о том самом мире, в котором мы живем» [Тюпа 2024, 30], то представители движения «литературы факта» хотели преодолеть несовершенство субъективных свидетельств достижением интерсубъективности путем вовлечения читательской массы в литературное производство и максимализации количества материалов (то есть фактов). Именно здесь проявляется псевдо-литературность данного движения.
Таким образом следует, что движение «литературы факта» затруднительно однозначно отнести к «историческому авангарду», то есть к тому направлению, которое, по определению Бюргера, стремилось соединить искусство с реальной жизнью. Напротив, возможно, следует рассматривать данное явление как очередную попытку преодоления ментального кризиса, выразившегося в разрушении целостности. Однако эта попытка в конечном итоге оказывается тупиковой, поскольку возникающее противоречие между «разрушением всех границ» и «установлением целостности» ведет к утрате искусства как такового. Однако рассмотрение названной проблемы могло бы стать задачей уже другой статьи.