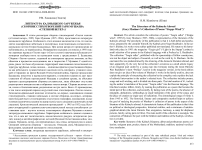Литература калмыцкого зарубежья (сборник стихотворений Гари Мушаева «Степной ветер»)
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен сборник стихотворений «Теегин салькн» («Степной ветер», 1995) Гари Мушаева (1925-1966), представителя литературы калмыцкого зарубежья. Особенность этого издания заключается в том, что оно является одновременно дебютным и посмертным, подготовленным составителем -калмыцким поэтом Егором Буджаловым. При жизни автора его произведения не публиковались, не переводились. Возвращение на родину состоялось в 1993 году: на страницах журнала «Теегин герл» («Свет в степи») напечатана небольшая стихотворная подборка поэта на калмыцком языке с предисловием Е. Буджалова. Сборник «Теегин салькн», изданный на спонсорские средства земляков, не был объектом и предметом исследования, как и творчество Г. Мушаева. С одной стороны, ранее это было обусловлено территорией замалчивания отечественной литературы зарубежья, позже, видимо, - единичным фактом существования сборника как небольшого художественного наследия поэта-эмигранта, угнанного юношей в Германию во время Великой Отечественной войны. Краткое предисловие Буджалова, известное в журнальном варианте, в книжном издании не дает представления об объеме произведений Мушаева в семейном архиве, не объясняет принцип структурирования сборника составителем, лишь объясняет отсутствие редакторского вмешательства в избранные тексты автора. Сборник включает стихи, песни и благопожелания, разделенные на три части. Всего 41 произведение, в том числе авторский перевод на русский язык стихотворения «Теегин салькн». Заголовочно-финальный комплекс отличается, во-первых, именованием издания стихотворением, ставшим начальным в составе сборника, во-вторых, датированием большей части стихотворений, отсутствием эпиграфов, посвящений, подзаголовков (единичное указание на жанр песни), места создания (единичный случай указания). Хронологический диапазон произведений - с 1945 по 1952 годы. Историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы способствуют достижению цели - изучить поэтику стихотворного сборника Мушаева в аспекте литературы калмыцкого зарубежья. Характерная особенность данного издания в том, что в нем нет политического, идеологического ракурса, исторических реалий, минимум автобиографических деталей (Великая Отечественная война, эмиграция, Германия, лагерь для перемещенных лиц, семья, актерские роли в кино). Основной лейтмотив сборника - ностальгия. Очевидна связь Мушаева-поэта с фольклором, традицией калмыцкого стихосложения.
Литература калмыцкого зарубежья, дебютный и посмерный поэтический сборник, поэт-эмигрант, поэтика, тема родины, традиция, национальное стихосложение, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149127484
IDR: 149127484 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00120
Текст научной статьи Литература калмыцкого зарубежья (сборник стихотворений Гари Мушаева «Степной ветер»)
** The study was conducted as part of the state subsidized project “Oral and written heritage of the Mongolian peoples of Russia, Mongolia and China: cross-border traditions and interactions” (registration number AAAA-A19-119011490036-1).
В отличие от литературы русского зарубежья, литература калмыцкого зарубежья - малоисследованное до сих пор явление, несмотря на то что изучение началось с 1990-х гг, когда в России стало возможным возвращение этой части художественного наследия в единый поток истории калмыцкой литературы прошлого столетия. Сложности обусловлены по-прежнему трудной доступностью к источниковедческим базам за рубежом, к личным архивам калмыков-эмигрантов в Западной Европе и США. Литература калмыцкого зарубежья включает в себя две волны: 1) 1920-е гг. - 1941 г, 2) 1945 г. - 1960-е гг. Первая волна, как и литература русского зарубежья первой волны, вызвана расколом России на два лагеря из-за Октябрьской революции и гражданской войны, когда калмыки, участники белого движения, вынуждены были эмигрировать в Западную Европу, а затем перебраться в США. Вторая волна, как и литература русского зарубежья второй волны, связана с Великой Отечественной войной (1941 1945), когда калмыки, попавшие в немецкий плен, оказались в Германии и не вернулись на родину по известным причинам (угроза советских репрессий). Отношение к зарубежным соотечественникам-литераторам претерпевало долгий период примирения в Калмыкии - от неприятия до понимания, особенно к представителям второй волны, как по политическим, идеологическим (в том числе из-за цензуры), так и по субъективным причинам.
В этом плане феномен литературы калмыцкого зарубежья первой волны более изучен, чем литература калмыцкого зарубежья второй волны [Борисенко, Горяев 1998; Борманжинов 1996; 1997; 1998; 2001; Шар-манджиев 2013; Бичеев 1991; Джамбинова 2001; 2003; Борджанова 2001; Топалова 2016; 2017 и др.]. Исследования путей развития литературной деятельности калмыцкого зарубежья условно делят на 3 группы: 1) труды социально-исторического характера, описывающие причины этого явления в истории калмыцкого народа; 2) статьи лингвистического характера с рассмотрением стилевых и языковых особенностей произведений; 3) литературоведческие работы [Топалова 2016, 26-27]. Среди персоналий основное внимание уделяется писателю Санжи Балыкову, его творческому наследию - повестям, рассказам, публицистике, созданным преимущественно на русском языке.
Литература калмыцкого зарубежья второй волны на примере поэзии Гари Мушаева не изучена, за исключением, например, заметок [Ипжип 1995], статей [Цеджинов 1995; Буджалов 2020], предисловий [Буджала 1993; 1995], рецензий [Эльдышев 1997] в связи с публикациями стихотворной подборки и поэтического сборника эмигранта, изданного на родине в начале 1995 г. [Мушаев 1995]. Объектом и предметом исследования творчество Гари Мушаева в литературоведении еще не стало. Сегодня он - единственный из представителей второй волны калмыцкой литературы зарубежья, чьи возвращенные произведения доступны для широкого читателя и литературоведов.
Биографические сведения о Гаре Мушаеве скудны, не всегда конкрет-

ны. Так, он родился 8 января 1925 г. в многодетной семье бедняка Муукла Мушаева, по одним сведениям, в хотоне (поселении) Асмут (урочище Год-жур) Абганеровского аймака Малодербетовского улуса, по другим сведениям - в хотоне Годжур Абганеровского улуса, по третьим сведениям - в хотоне Ергени Кетченеровского улуса, в современной геолокации - на территории Кетченеровского района Калмыкии. Будучи седьмым ребенком, но старшим из сыновей, Гаря с детства отличался способностями в учебе: в 1942 г. окончил с похвальной грамотой, по одним сведениям, десять классов Цаган-Нурской средней школы, по другим сведениям - школу-интернат в селе Цаган-Нур. После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом полицаи забрали с собой калмыцкую молодежь, так семнадцатилетний Гаря в 1943 г. оказался в Германии на принудительных работах в лагере «Шлайсхайм». С 1945 г. находился в том же лагере уже для перемещенных лиц под Мюнхеном, в американской зоне оккупации. Там же начал писать стихи, сочинять песни, исполнять их в самодеятельном ансамбле с друзьями-калмыками. По воспоминаниям современников, Гаря хорошо знал калмыцкую литературу, национальный фольклор, в том числе наизусть читал фрагменты глав героического эпоса «Джангар», принимал участие в художественной самодеятельности, в олимпиадах по народному творчеству [Ипжип 1995, 71-72; Буджалов 2020, 35]. Все это нашло отражение в его поэзии.
Поначалу не придававший значения своим стихам, Мушаев прислушался к советам старших друзей, поддержавших его дар. В 1947 г. он женился на калмычке Жене Доржиновой, родились сын Дорджи и дочь Пурма. По свидетельству родни, сыграл эпизодические роли в нескольких немецких кинофильмах 1950-х гг. [Буджалов 2020, 36]. В 1958 г. Гаре Му-куловичу удалось из ФРГ передать письмом через Лиджи Инджиева, тогда депутата Верховного Совета СССР, весточку своей родне, узнавшей теперь через много лет после войны, что пропавший без вести жив [Ипжип 1995, 72]. Гаря Мушаев скончался от туберкулеза в возрасте 41 года в апреле 1966 г, похоронен в Мюнхене.
В 1989 г. калмыцкий поэт Егор Буджалов, побывавший по приглашению в США, познакомился со вдовой Г. Мушаева, переехавшей в Филадельфию после смерти мужа; она рассказала о нем и передала рукописи некоторых его стихов для публикации на родине. Так калмыцкие читатели познакомились с творчеством поэта-эмигранта сначала в газетном, журнальном и, наконец, книжном варианте.
По словам Е. Буджалова, ставшего литературным агентом Мушаева в России и Калмыкии, «Гаря Мукулович был не только поэтом, музыкантом, исполнителем. Он еще и неплохо рисовал. Рисунок <.. .> это его собственный набросок обложки книги стихов, которая, он верил, когда-нибудь выйдет у нас в Калмыкии. <...> И знал, что жить ему осталось совсем немного. <.. .> И заранее подобрал рукописи стихов, которые войдут в книгу, нарисовал, какой должна быть обложка. И сам перевел на русский язык свое самое лучшее, на его взгляд, стихотворение “О, ветер!”, которое дало

название всему сборнику» [Цеджинов 1995, 124].
В статье «Судьба изгнанника» журналист Савр Буджалов сообщал: «В 1995 году в Калмыкии был издан небольшой сборник стихов “Теегин салькн”, куда вошла лишь малая часть творчества поэта. Презентация прошла в поселке Ергенинский, где после возвращения из ссылки поселились его родные. <...> Остальные творения хранятся у его потомков в США и ждут своего часа на переиздание. Также сохранились аудиозаписи с песнями Гари Мушаева» [Буджалов 2020, 36].
Следовательно, мы имеем дело с необычным литературным фактом: дебютный и одновременно посмертный сборник стихотворений, написанных на чужбине, но изданных на родине. Согласно У.Ю. Вериной, «посмертные (“задержанные” или “возвращенные”) издания становятся значимой конкурентной частью “поля литературы” и оказывают влияние на тот момент литературного процесса, в который появляются в виде книг. Безусловно, такого рода издания влияют на поэтов - современников издания, на их представления о новом или уже освоенном поэзией. Также посмертные издания оказывают воздействие и на исследование истории и теории литературы, поскольку своим появлением могут вызывать необходимость уточнения или пересмотра сложившихся представлений...» [Верина 2017, 214]. В то же время справедливо утверждение этого исследователя о том, что «отсутствующий “перелом в общественном сознании”, запоздалая легитимация “возвращенных” авторов - все это вопросы канонизации, требующей значительного времени на научную, методологическую, социальную рецепцию» [Верина 2017, 214].
Из интервью Е. Буджалова (1929-2009), данного им С. Цеджинову, неясно, каков вообще объем творчества поэта-эмигранта, его жанровый состав, какие именно рукописи стихов тот подобрал для будущей своей книги, какой видел ее структуру, как собирался назвать книгу. Кроме того, Е. Буджалов не оговорил в своем предисловии к сборнику стихотворений Мушаева принцип составления, названия, деления натри части: «Шулгуд» (‘Стихи’), «Дуд» (‘Песни’), «Иорэлмуд» (‘Благопожелания’). Было ли это воплощением авторского замысла или волей составителя? Как выстраивалась последовательность произведений в каждом разделе книги? Буджалов, будучи также редактором журнала «Теегин герл», подчеркивает отсутствие редакторского вмешательства в избранные тексты автора в журнальном и книжном вариантах [Буджала 1993, 106; 1995, 9]. Всего в сборнике 41 произведение, в том числе авторский перевод на русский язык стихотворения «Теегин салькн» (‘Степной ветер’), представленный также и факсимиле под названием «О, ветер!». Заголовочно-финальный комплекс отличается, во-первых, именованием издания стихотворением, ставшим начальным в составе сборника, во-вторых, датированием большей части стихотворений, отсутствием эпиграфов, посвящений, подзаголовков (единичное указание на жанр песни «Смаран, улмар, омаран» (‘Вперед, все вперед’)), места создания (единичный случай указания в песне «Смаран, улмар, омаран» - Агсбург, 3.06. 1946 я?.). Хронологический диапазон про-

изведений - с 1945 по 1952 гг, при этом в сборник вошло 1 стихотворение 1945 г, 4 - 1946-го, 15 - 1947-го, 3 - 1948-го, 1 - 1952-го, 14 - без даты. Нет произведений за 1949, 1950, 1951 гг. Значит ли это, что в тот период поэт не создавал никаких текстов? В 1945 г. автору было 20 лет, в 1952 г. - 27 лет. Неизвестно нам и то, до какого времени творил Мушаев. Писал ли он до конца своей короткой жизни? Пробовал ли свои силы в прозе? Были ли другие авторские переводы собственных произведений? Сохранились ли черновики? Были ли записные книжки? Остались ли в архиве Е. Буджало-ва оригиналы произведений Мушаева, по сути, автографы? Вдова Е. Буд-жалова не располагает информацией по этому поводу.
В своей статье журналист С. Буджалов пишет, что в сборник стихов «Теегин салькн» вошла лишь малая часть творчества поэта, остальные произведения хранятся у потомков, но не ссылается ни на чьи слова в подтверждение сказанного. Прошло уже 15 лет после выхода этого сборника, но новых публикаций стихотворений или изданий книг не последовало ни на родине, ни за рубежом.
Все перечисленное не умаляет значения творчества представителя литературы калмыцкого зарубежья второй волны. Высокую оценку поэзии Гари Мушаева дали народные поэты Калмыкии Лиджи Инджиев, Егор Буджалов, Эрдни Эльдышев. По мнению Л. Инджиева, каждое стихотворение этого поэта - печальное, но светлое - вызывает сострадание соотечественников авторскими воспоминаниями о семье, родне, любимой степи, друзьях, любимых, о горькой жизни на чужбине; его душа через песни вернулась в калмыцкую степь и навсегда осталась в народе [Ипжип 1995, 73-74]. Напомним, что существительное «ностальгия» образовано из двух древнегреческих слов, означающих «возвращение на родину» и «боль», т.е. это тоска по родине, по дому, по прошлому, оставшихся в воспоминаниях. «Как знакома каждому калмыку эта его глубокая, неизбывная тоска по родной степи! Даже поколение, которое не было в сибирской ссылке, имеет в генах горький осадок этой кровоточащей тоски по родной земле. <...> Талант Гари Мушаева, - убежден Э. Эльдышев, - имеет прямое отношение к характеру нации. Именно поэтому он - наш калмыцкий поэт, поэт нашего многострадального народа» [Эльдышев 1997, 392-393].
Сопоставление журнальной и книжной публикаций стихотворений Г. Мушаева позволяет увидеть, что все 16 журнальных текстов вошли в сборник. Составительский подход (хотя Е. Буджалов указан ответственным за выпуск) заявлен в аннотации издания: «Сборник стихов “Степной ветер” интересен тем, что автор его - поэт калмыцкого зарубежья. Стихи, песни, благопожелания, вышедшие из-под его пера, совершенно свободны от коммунистической идеологии. Они написаны не по заданию, а по зову сердца. Тоска по малой Родине - Калмыкии, по любимой девушке, по неповторимым краскам родной степи является лейтмотивом этого удивительно лиричного сборника. Сборник стихов “Степной ветер” рассчитан на широкий круг читателей» [Мушаев 1995, 80].
Обратим внимание на то, что это именно сборник стихов, а не книга
стихов, имеющая свои отличительные признаки в целостном представлении либо дебютного, этапного, итогового, либо посмертного издания произведений [Барковская и др. 2016]. Сборник оформлен фотографией автора, его рисунком на форзаце (дерево под ветром), дополнен предисловием Е. Буджалова «Цагнь ирхлэ...» (‘Когда наступит время...’), послесловиями поэта Л. Инджиева «Мана хотна ковун» (‘Парень из нашего хото-на’), земляка С. Менкеева «Эркн чинртэ керг» (‘Главное значимое дело’). Формат издания 60x84 1/32, объем составляет 80 страниц, мягкая цветная обложка с изображением тюльпана, тираж 3 тыс. экз., переданный в дар школьным библиотекам Калмыкии.
Мушаевский сборник, изданный к 70-летию со дня рождения поэта, по терминологии Н. Барковской, можно назвать также книгой-эпитафией [Барковская и др. 2016, 341], по определению Э. Эльдышева, - книгой-завещанием [Эльдышев 1997, 397].
Архитектоника издания ориентирована на жанровый вектор: стихи, песни, благопожелания. Внутри каждого раздела хронологический принцип не соблюдается. В первый раздел помещены 34 текста, во второй раздел - 4, в третий раздел - 3. Из 41 произведения в первом разделе с названием вошло 15 текстов, без названия - 19, во втором разделе с названием - 3 текста, без названия - 1 текст, в третьем разделе все 3 текста даны без названия. Заглавное стихотворение «Теегин салькн» (‘Степной ветер’), давшее имя сборнику, открывает первый раздел, вслед за ним есть факсимильное воспроизведение авторского русского перевода под иным названием «О, ветер!». Вопреки признанию этого перевода удачным, мы так не считаем. Во-первых, смена названия влияет на рокировку объекта и субъекта, смысловой акцент в тексте. В оригинальном названии геолокация актуализирует мотив степного края (не просто ветер, а степной ветер), в переводе же активизируется лирический субъект. Во-вторых, символика ветра носит универсальный характер, связанный со стихией воздуха: время, пространство, скорость, возрождение, духовная стихия, свобода, божественное дыхание, непостоянство, разрушительность и т.д. Природа ветра двойственна, крайние его проявления (вихрь, ураган) считаются проявлением нечистой силы.
В мушаевском стихотворении ветер наделен положительными коннотациями. «Терски таласм Барси, / Теегин салькн, ирич. / Терз тусм ишкрсн / Таамлжта дууБан дуулыч» [Мушаев 1995, 10]. В авторском переводе: «О, ветер, питомец степей, / Прильни, будто вестник, к окну. / Любимую песню навей, / Ту песню, про нашу страну» [Мушаев 1995, 13]. Ср. в нашем смысловом переводе: «Рожденный в моей родной стороне, степной ветер, приди. Просвистев за окном, спой ласковую песню». Здесь заявлена взаимосвязь ветра / воздуха / жизни с родным степным краем. Границы между странами, между внутренним и заоконным пространством манифестируют судьбу человека на чужбине. Запах родины определен запахом знакомых цветов, усладившим неспокойное сердце, которое просит ветра восславить родную степь, рассказать сказку. Мотив сиротства усилен об-
ращением к ветру обнять сироту, тихо убаюкать, при встрече его с ветром погладить лицо. Ср. в авторском переводе: «Я выйду к тебе, приласкай, / Я очень устал, не гони. / Печаль мою выплакать дай, / Сном, как крылом, осени» [Мушаев 1995, 13]. Пятая строфа углубляет мотив одиночества лирического субъекта: «Уульхлам, чссжимм зовлцгиг / Унта ээждм кургич, / Узсн-соцссн хамган / Уннднь кургад келич» [Мушаев 1995, 11]. В авторском переводе: «Для матери все сохраня: / И лицо мое, и голос, и стон / Скажи ей, что видел меня, / Что эти стихи мой поклон» [Мушаев 1995, 14]. Ср. в смысловом переводе: «Когда я плачу, мои душевные страдания донеси до моей дорогой матери. Обо всем увиденном-услышанном передай, расскажи ей». Заключительная оригинальная строфа не образует кольцевую композицию текста, как в авторском переводе, а как бы размыкает: «Терски таласм Барси, / Теегин салькн, ирич. / Терздм ирод ду-улгсн / Таамлжта дууйан дуулыч» [Мушаев 1995, И]. В смысловом переводе: «Рожденный в моей родной стороне, степной ветер, приди. Спевший у моего окна, спой ласковую песню». Если ранее ветер вначале свистел у окна, то теперь пел. Свист в калмыцкой культуре имеет отрицательные ассоциации, связанные с нечистыми сферами. Так и после окончания войны (дата создания стихотворения 7.07.1946 яц) для юноши двадцати одного года нет возможности вернуться на родину, к семье, к матери. Двойственная природа ветра провоцирует двойственный образ родины как мачехи, не принимающей своего сына, и матери, разлученной со своим ребенком.
С этим программным стихотворением взаимодействует стихотворение «Экин дун» (‘Материнская песня’), созданное на день раньше (7.07.1946 яц) и открывающее второй раздел. Название апеллирует к жанру авторской колыбельной песни, редкой в калмыцкой поэзии. Песня начинается ночной картиной, когда лунный луч, наклонившись, заглядывает через харачи (верхнее отверстие в куполе) кибитки, светит над колыбелью. За кибиткой шумно течет река, ее сладкой водой мангас (чудовище из мифологии монгольских народов) поит своего коня, точит копье о камень. Эта экспозиция подготавливает обращение матери к своему младенцу: «Осхч, эцкр урм, / Орн-нутган харсхч, / Эвлун дуунамм айст / Эн насндан унт» [Мушаев 1995, 60]. В смысловом переводе: «Вырастешь, мое любимое дитя, защитишь страну, под мое мирное пение сейчас засыпай». Мать называет сына богатырем, настоящим калмыком, подобным эпическому герою Улану Хон-гору еще одним львом. Когда он пойдет на войну, она вручит ему амулет-мирде, будет охранять его своими молитвами и четками. Будет одиноко в ожидании проливать горькие слезы, провожая дни, расходуя сонные ночи. Глагольный маркер колыбельной «унт» (‘спи, засыпай’) стал рефреном-анафорой в заключительном четверостишии: «Унт, кооркм, унт, / Унт, осч-оргя(, / Унт серглц эрул, / Унт дулахн олгодэн» [Мушаев 1995, 61]. В смысловом переводе: «Спи, мой милый, засыпай, спи, расти-поднимайся, спи-здравствуй, спи в теплой колыбели». «Материнская песня» написана в традициях народной колыбельной песни с опорой на ключевые символы-образы: родина, ее защита от врагов, идеал эпических богатырей, героиче-
ская традиция, божественное покровительство.
Сквозные мотивы - родина-мать, родная мать, родная степь, любимая женщина, семья - образуют художественное пространство мушаевского сборника. Следом за программным стихотворением «Теегин салькн» идет несколько текстов, обращенных к любимой девушке, оставшейся в родном краю. Первое из них «Бича зов» (‘Не страдай’, 1945) аккумулирует в себе мотивы любви, прощания, разлуки, воспоминания. Поэт призывает возлюбленную довериться судьбе и богам («Бийнь ховдан / боли олн Деедстэн даалБ»), беречь подаренное им кольцо, желает ей счастья в будущем без него, здравствовать, не страдать об их горестной доле. Драматизм любовной лирики Мушаева («Бичг» (‘Письмо’), «Хойр суудр» (‘Две тени’) и др.) усугубляется нашим знанием о депортации и ссылке калмыцкого народа в период сталинских репрессий (1943-1956). Вопрос в том, знал ли о такой судьбе своего народа тогда изгнанник в Германии? Воспоминания о юношеской любви и о родном крае сливаются воедино для поэта. Одно из ключевых стихотворений сборника - «Теегм» (‘Моя степь’, без указания даты) с афористической формулой: «У-оргн Теегм - / Уурган кокулсн ээ>цм!» (‘Необъятная Степь - моя мать, вскормившая молоком!’) [Мушаев 1995, 23]. Для мушаевского сборника не характерны политические, идеологические координаты, конкретные реалии эмигрантской жизни. Редки в его стихах какие-либо топонимы и локусы. Так, в стихотворении «Гашута ящрБлурн хэлэхнь...»(‘Если посмотреть на горькую жизнь... ’, 20.04.1947) лирический субъект мечтает достичь горы Алтай, зажить там счастливо, иногда мысленно полететь, достигнув Джунгарии, земли предков-ойратов: «Алтан уулд курод / Амрад жирОэд однав, / Зэрмдэн санаБарн нисэд / Зун Нарт курнов» [Мушаев 1995, 25]. Или добраться до Элисты, а оттуда на коне приехать в родной хотон. Там его встретит обрадованная старушка-мать, подбежит младший брат. Когда же размышления обрываются, он видит себя в Германии (Терманьд боэхэн узнэв’) и горестно понимает, что это единственная мечта. В географических векторах - отзвуки калмыцких народных песен о прародине; в то же время исторические перемены в ликвидации калмыцкой автономии и прежнего названия ее столицы (вместо Элиста теперь Степной), когда народ был репрессирован, Мушаеву были, скорее всего, неизвестны. Приметы родной природы заметны в образе маленького серого воробья, сидящего в зарослях полыни, в ольфакторном сигнале - аромат тюльпана («Бичкн бор богшурБа...» (‘Маленький серый воробей’), 1947). Мотивы национальной идентичности на чужбине, сохранения родного языка, культуры, верований, истории нашли отражение во многих стихах поэта: «Харулчув» (‘Часовой’, 1947), «Хальмг» (‘Калмык’, 1948), «Бичкн хальмг» (‘Калмычонок’, 1948), «Эцкр, эцкр теегм» (‘Любимая, моя любимая степь’). В «Часовом» есть элементы стихотворения-клятвы, в котором лирический субъект, доверив молитвой свою жизнь богам, клянется не пожалеть своей головы ради отчизны: «Эдстэ бурхдтан зальврад / Эмэн, насан даалБнав, / Торскн нутгиннь тело / ТолБаБан чигн хармнхшув» [Мушаев 1995, 41]. Для поэта калмык - это потомок Чингис-
хана, легендарные имена, любимые песни, учение Будды, сила богатыря Хонгора, полет сокола и ястреба, бег скакунов-аранзалов. Когда восходит солнце, сердце изгнанника волнуется, говоря, что отчизна там («Хальмг» (‘Калмык’)) [Мушаев 1995,44]. В этом тексте ощутимо влияние фольклорного жанра магтала - восхваления. Буддийское учение о сострадании ко всему сущему нашло отражение в сюжете стихотворения «Бичкн хальмг» (‘Калмычонок’): встреча с маленьким мальчиком, спасающим в траве муху из сети паука, умилило случайного прохожего. Он обращается к ребенку с йорялом-благопожеланием - всегда оставаться верным заветам Будды, вырасти богатырем, чтобы также вызволить народ из бед коммунистической паутины. «Буйнта седклэн бород / Баатр болж; ос, / Гурмто, килнцто коммуна / Гулмос сулдх бас» [Мушаев 1995, 47]. Пожалуй, в сборнике это стихотворное выражение политической инвективы поэта, одна из форм памфлета. Другое высказывание Мушаева о советской стране, не названной в произведении, обыгрывает известный призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» («Салхм, - гидг уг...», 1947 (‘Разойдемся - такое слово...’)).
«Любовь к далекой, но родимой стороне, нетленные ценности народной морали и этики - эти темы являются главными темами книги поэта “Теегин салькн”» [Эльдышев 1997, 393]. К сатирическим этюдам можно отнести несколько текстов в сборнике: «Дортц-Нэрэн СацЬж...» (‘Сангад-жи Дорджи-Горяев...’, 1947), «Угатя байн хойр» (‘Бедняк и богач’, 1948), «Дала юмнд курхэр...» (‘Чтобы многого достичь...’, 1947), «Нурвн эркнч» (‘Трое пьяниц6) и др., в которых обличаются социальное неравенство, пьянство, безделье, пустословие, трусость. Но расположение этих стихотворений в сборнике произвольное, нарушает тематические ряды.
Более органичен в этом плане второй раздел, представленный песнями поэта. Рассмотренная выше «Материнская песня» соседствует с призывом к молодежи «Омарои, улмар, омаран» (‘Вперед, все вперед’, 1946), название которого стало припевом. «Дун» (‘Песня’) - размышление о калмыцкой песне как сокровищнице народа. Заключительная песня «Соони орэлин салькн...» (‘Полуночный ветер...’) в этом разделе перекликается с начальным в сборнике программным стихотворением «Теегин салькн» (‘Степной ветер’). Здесь ностальгия по родине усугубляется сожалением о судьбе изгоя, не виновного в своей судьбе, расставшегося с родней на Кубани, вспоминающего при восходе солнца о Маныч-реке. Кольцевая композиция песни о полуночном ветре, бередящем думы о прекрасной родине, с которой разлучен автобиографический герой, становится камертоном всего сборника. В стихотворении «Теегин Бэрдшц делчкэд...» (‘Расправив крылья степного орла... ‘) из первого раздела есть оппозиция степному ветру в виде холодного немецкого ветра, от которого изгнанник умрет на чужбине (‘Киитн немшин салькнд / Колдж; укхэн мед... ‘).
Фольклорный жанр йоряла-благопожелания сопровождает калмыков всегда, они произносят его и при встрече-расставании, желая адресату / адресатам мира, благополучия, здоровья, белой дороги (в значении бла-
гополучной), прибавления потомства, преодоления преград. Таковы три йоряла в третьем разделе сборника. Поэт называет сородичей людьми с красной кисточкой (‘улан зала’ - красная кисть, сакральный код калмыков, обозначающих на шапке красной кисточкой связь с солнцем), желает им достичь нирваны (в контексте духовного и душевного успокоения / умиротворения).
Все произведения сборника в целом созданы в традиции калмыцкой версификации (аллитерация, различные виды анафоры - парная, сплошная, кольцевая, редиф), изредка наблюдаем заимствованную строфическую «лесенку». Тексты в основном структурированы катренами-четверостишиями, иногда трехстишиями, восьмистишиями, без деления на строфы даны йорялы-благопожелания.
Подводя итоги, отметим, что издание единственного стихотворного сборника Г. Мушаева «Теегин салькн» (‘Степной ветер’) не дает целостного представления о его творческой эволюции, но позволяет зафиксировать явление литературы калмыцкого зарубежья второй волны на примере возвращенного художественного наследия этого поэта. Неизвестно, в какой мере при этом соблюдены принципы авторской воли и составительского подхода, в этом случае, вероятно, речь может идти о сложной двойственной природе авторства и составительства. Публикаторская история произведений Г. Мушаева имеет газетную, журнальную и книжную направленность с предисловием его литературного агента в России и Калмыкии, поэта Е. Буджалова, получившего рукописи эмигранта от его вдовы в США. Неизвестно, каков объем творческого наследия поэта в семейном архиве, интенсивность создания авторских произведений в разные годы, сопутствующие биографические материалы. «Теегин салькн» являет одновременно дебютную и посмертную книгу Г. Мушаева, книгу-эпитафию, книгу-завещание. Три раздела сборника дают представление о тематическом, жанровом, стилевом своеобразии произведений поэта. Тематика определена трагической судьбой автора, оказавшегося на чужбине молодым человеком и рано там ушедшим из жизни: любовь к степному краю, ностальгия по родине, семье, любимой женщине, историческая память о героическом прошлом предков, о прародине Джунгарии, о легендарных национальных героях, эпических богатырях, о безрадостной жизни в эмиграции вдали от матери, о недостижимой мечте вернуться в отчий дом. Сквозной символ сборника - степной ветер, противопоставленный чужому - немецкому -ветру. Буддийские верования поэта определили буддийские мотивы в его произведениях. Заголовочно-финальный комплекс характеризуется датированием большей части стихотворений с 1945 по 1952 гг, отсутствием эпиграфов, посвящений, подзаголовков, места создания. Автор следует традиции национального стихосложения, вводит элементы фольклорных жанров в свои тексты - магтал, йорял, песня, а также письма, инвективы, сатиры. Статус посмертной публикации текстов в формате книжного издания реализует стратегию канонизации поэта Гари Мушаева на родине спустя 29 лет после ухода его из жизни. Несмотря на то, что сборник поэта
не имел широкого литературного резонанса, не был объектом и предметом в литературоведении, его художественное наследие несомненно нуждается в дальнейшем изучении.
Список литературы Литература калмыцкого зарубежья (сборник стихотворений Гари Мушаева «Степной ветер»)
- Барковская Н.В., Верина УЮ., Гутрина Л.Д., Жигуль В.Ю. Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. М.; Екатеринбург, 2016.
- Бичеев Б.А. Влияние письменных памятников и фольклора на развитие калмыцкой литературы (1920-30 гг.): дис. . канд. филол. наук. М., 1991.
- Борджанова Т.Г. Фольклор калмыцкой диаспоры (по материалам печатных изданий) // Проблемы современного калмыковедения (сборник научных статей). Элиста, 2001. С. 44-47.
- Борисенко И.В., Горяев А.Т. Очерки истории калмыцкой эмиграции. Элиста, 1998.
- Борманжинов А. Записки о калмыцкой диаспоре // Теегин герл. 1996. № 8. С. 93-99.
- Борманжинов А. Записки о калмыцкой диаспоре // Теегин герл. 1997. № 6. С. 109-119.
- Борманжинов А. Записки о калмыцкой диаспоре // Теегин герл. 1998. № 6. С. 114-125.
- Борманжинов А. Записки о калмыцкой диаспоре // Шамбала. 2001. № 7/8. С. 8-19.
- Буджала Е. «Цагнь ирхлэ...» (Шулгч Муушан Ьэрэ тускар ахр Yг) // Теегин герл. 1993. № 5. С. 105-106.
- Буджала Е. Цагнь ирхлэ. // Мушаев Г.М. Степной ветер: стихи, песни, благопожелания. Элиста, 1995. С. 5-9.
- Буджалов С. Судьба изгнанника // Байрта. 2020. № 6. С. 34-36.
- Верина УЮ. Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ-XXI вв. Минск, 2017.
- Джамбинова Р.А. В потоке безвременья (некоторые аспекты национального литературного зарубежья) // Проблемы современного калмыковедения (сборник научных статей). Элиста, 2001. С. 38-40.
- Джамбинова Р.А. Литература Калмыкии: проблемы развития. Элиста, 2003.
- Инжин Л. Мана хотна кевYн // Мушаев Г.М. Степной ветер: стихи, песни, благопожелания. Элиста, 1995. С. 71-74.
- Мушаев Г.М. Степной ветер: стихи, песни, благопожелания. Элиста, 1995.
- Муушан Ь. ШYлгYД // Теегин герл. 1993. № 5. С. 106-110.
- Топалова Д.Ю. Изучение литературной деятельности калмыцкой эмиграции. К истории вопроса // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 31. Вып. 2. С. 26-32.
- Топалова Д.Ю. Литературная деятельность калмыцкой эмиграции (19201930 гг.) Элиста, 2017.
- Цеджинов С. После долгой разлуки // Теегин герл. 1995. № 4. С. 122-126.
- Шарманджиев Д.А. Из истории калмыцкой эмиграции ХХ в. в европейские страны и США // Этнографическое обозрение. 2013. № 3. С. 117-124.
- Эльдышев Э. О стихах поэта Гари Мушаева // Эльдышев Э.А. Семь журавлей: стихи, поэма, проза, переводы. Элиста, 1997. С. 392-397.