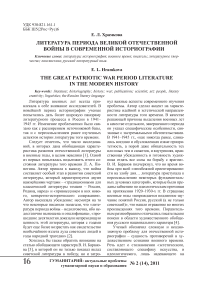Литература периода Великой Отечественной войны в современной историографии
Автор: Храмкова Елена Ленаровна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализирована проблема изучения литературы военных лет в новейшей историографии (в новейший период), анализируются основные направления исследования, втом числе региональные.
Литература, историография, военное время, писатель, литературное творчество, лингвистика, русский литературный язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14720607
IDR: 14720607 | УДК: 930:821.161.1
Текст статьи Литература периода Великой Отечественной войны в современной историографии
Литература военных лет всегда привлекала к себе внимание исследователей. В новейший период историографии ученые попытались дать более широкую панораму литературного процесса в России в 1941– 1945 гг. Изменение проблематики было связано как с расширением источниковой базы, так и с переосмыслением ранее изученных аспектов истории литературы того времени.
Следует отметить, что число исследований, в которых дана обобщающая характеристика развития отечественной литературы в военные годы, в целом невелико [1]. Одной из первых попыталась подытожить итоги состояния литературы того времени Л. А. Пи-негина. Автор пришла к выводу, что война составляет особый этап в развитии советской литературы, который характеризуется двумя важнейшими чертами – «традиционными для классической литературы темами – Россия, Родина, народ» и «привнесением в них нового, конкретно-исторического содержания». Автор высказала убеждение: несмотря на то что некоторые писатели полагали, что «литература периода войны – недолговечна, ибо недостаточно выношена и отшлифована», «прошедшие десятилетия доказали непреходящую ценность этой литературы, которая с годами будет еще более возрастать как свидетельство необычайного взлета духа советских людей в годы народной трагедии» [2].
Хотелось бы также обратить внимание на статью обобщающего характера В. И. Баранова [3], в которой он не только показал вклад советской литературы в победу, но и затро- нул важные аспекты современного изучения проблемы. Автор сделал акцент на характеристике идейной и эстетической направленности литературы того времени. В качестве решающей причины выделения военных лет в качестве отдельного, завершенного периода он указал специфические особенности, связанные с экстремальными обстоятельствами. В 1941–1945 гг., «как никогда ранее, сливались воедино и обусловленная извне приоритетность, а порой даже обязательность тех или иных тем и сюжетов, и внутренняя, нравственная убежденность и готовность художника отдать все силы на борьбу с врагом». В. И. Баранов подчеркнул, что во время войны при всей «неизбежной ориентированности на злобу дня… литература приступала к переосмыслению некоторых фундаментальных духовных категорий», которые были преданы забвению по идеологическим причинам на протяжении 1920–1930-х гг. В страшные военные годы «возрождается подлинное звучание понятий Россия, русский (а не только советский)», что нашло отражение во многих произведениях того времени. Поразительным разнообразием отличались писательские поиски в области художественного обобщения русского национального характера [4].
Ученый обозначил сложную и неоднозначную проблему для отечественной историографии – сущность противоречий в художественном сознании военного времени. Речь идет о столкновении «эстетического, составляющего специфику искусства, и идеологического, лишь надевающего на себя одежды эстетического в агитационнопропагандистских целях». Произведения конъюнктурного, явно заказного характера, появление которых было неизбежно в те годы, со временем были обречены на забвение. В то же время, как заметил автор, «идеологическая заданность» искусственно сконструированных сочинений объективно противостояла произведениям, пронизанным «глубинной жизненной правдой», в подлинности которой у читателя не возникало никаких сомнений. В заключение автор подчеркнул: несмотря на то что «в ходе самой войны писатели не могли сказать всего, о чем знали, – и не только в силу внешнего запрета», а прежде всего потому, что писать «надо было о том, что с наибольшей силой работало на победу над врагом», с «этой задачей литература справилась вполне достойно» [5].
В последние годы литература военных лет изучается во взаимосвязи с проблемой национального менталитета. Как известно, при попытке ментального описания той или иной нации исследователь сталкивается с существенными трудностями, прежде всего в области источниковой базы. Поэтому некоторые ученые предложили использовать в качестве универсальной основы национальную литературу. Так, Е. Э. Никитина пишет, что одним из наиболее интересных объектов в этом плане является русская литература 1941–1945 гг., так как в данном случае можно «говорить о предельной степени обобщения. О раскрытии в литературе не просто той или иной черты русской нации, а основных особенностей русского национального характера и менталитета». Во время великих потрясений специфические черты тех или иных групп, составляющих нацию, отходят на второй план. На первый план выдвигаются «именно те особенности, которые были свойственны подавляющему большинству представителей народа, то, что объединяет в нацию людей разных профессий, возрастов, политических убеждений и т. д.» [6].
Одним из ведущих направлений в исследовании проблемы является критическое изучение методов государственного руководства литературой в предвоенный и военный периоды. Данная тема нашла отражение в документальных публикациях [7], коллективных исследованиях и монографиях [8], статьях [9] и диссертационных исследованиях [10]. В монографии Д. Л. Бабиченко «Писатели и цензоры» были рассмотрены условия, в которых пришлось развиваться отечественной литературе в 1940-х гг. Автор пришел к выводу, что принятые сталинским руководством меры для «укрощения» литературы и искусства одновременно являлись возвратом к довоенной репрессивной политике и прелюдией для послевоенных аналогичных постановлений. Выявленные факты скорректировали некоторые устоявшиеся взгляды на взаимоотношения Союза писателей, отдельных литераторов и ЦК ВКП (б). Автор обратил внимание на недостаточную изученность такой проблемы, как «писатели и эвакуация». Более обстоятельно он рассмотрел ее в кандидатской диссертации, где пришел к выводу, что в начале войны жесткий идеологический контроль вступил в противоречие с новыми условиями жизни обороняющейся страны, поэтому угроза «внутреннего врага» отошла на второй план. Необходимо было внедрять в сознание «новые идеологические установки, способные объединить власть и народ в борьбе с внешней опасностью». Поэтому для первого периода войны была характерна «общая дезорганизация в управлении идеологической работой в стране», связанная как «с эвакуацией самого аппарата ЦК, так и структур ССП и членов Союза». С середины 1943 г. с изменением внешнеполитической ситуации ЦК ВКП(б), ССП, УПА стали возвращаться к привычным для них методам работы. В 1943–1945 гг. происходит новое ужесточение контроля над литературным творчеством [11].
«Государственный» аспект проблемы доминирует и в монографии А. В. Сперанского. В главе «Литература: парадоксы военного времени», по мнению исследователя, основной «парадокс» – «определенная синхронность в действиях политического режима и писательской интеллигенции», когда литераторы «стали своеобразным приводным ремнем, субъективно выполняя в своих произведениях требования властных структур и объективно отражая чаяния народных масс» [12]. Автор подчеркнул: если в условиях мирного времени чрезмерная идеологизация литературного процесса, заданные сверху рамки и нормы творчества «тормозили развитие литературной жизни страны, способствовали проявлению определенной ду- ховной деградации…», то «в атмосфере военной поры…» они «в значительной мере содействовали созданию положительного эффекта, так как порождали справедливую ненависть к немецким захватчикам, укрепляли уверенность борющегося народа в окончательной победе над врагом». А. В. Сперанский пришел к выводу, что «местные власти осуществляли прямой контроль за планированием всей литературной работы, активно воздействовали на определение тематики произведений, регулировали деятельность писательских организаций в заданном идеологическом направлении». Особенно пристально власть наблюдала за творчеством начинающих писателей. В то же время, как отметил автор, в условиях военной действительности со стороны творческой интеллигенции подобная политика не вызывала никакого протеста, а наоборот, встречала полную поддержку [13]. Он объясняет это не только «милитаризацией литературной сферы» и огромным патриотическим подъемом, но и реальной зависимостью материально-бытового обеспечения писательских организаций от конкретных партийно-государственных структур. Пытаясь объективно оценить регламентацию литературной сферы в условиях войны, он обратил внимание на то, что в области взаимоотношений писательских организаций с издательствами эта практика имела и положительный эффект [14].
Определенный вклад в изучение взаимодействия в военный период институтов власти и писателей внесла В. А. Антипина [15]. Она пришла к выводу о значительной роли в материально-бытовой жизни и организации творческой деятельности литераторов таких структур, как Союз советских писателей (ССП) и Литфонд; об их двоякой роли в налаживании материально-бытовой стороны жизни литераторов. С одной стороны, эти учреждения являлись проводниками партийно-государственной идеологии, способствовали унификации литературной жизни, а с другой, отстаивали корпоративные интересы литераторов. Изучение документов РГАЛИ, относящихся к военному времени, привело автора к интересному обобщению о невысокой способности «…писатель-ской общественности к самоорганизации и самостоятельному решению проблем. Инициативы писателей в основном сводились к организации новых бюрократических объединений и написанию писем в различные инстанции с просьбой о выделении денег, продовольствия и промышленных товаров». Данные поведенческие стереотипы прижились в литературной среде задолго до образования ССП, деятельность этой организации «лишь культивировала почву для их развития и процветания», а установленное «ею тесное взаимодействие с властью привело к определенной деформации сознания советского писательства…» [16].
В историографии развития литературного процесса в условиях войны можно отметить монографические и диссертационные работы, а также другие исследования регионального характера [17]. Авторы выделили основные направления перестройки деятельности творческой интеллигенции, рассмотрели наиболее распространенные литературные жанры, выявили основные черты литературы военного времени и ее наиболее значимые художественные достижения. Гораздо реже раскрывались воздействие литературы на читателя, его реакция на те или иные произведения. Среди дискуссионных вопросов, поставленных в региональной историографии, можно отметить проблему «качества» созданных в военную пору произведений. Она прозвучала, в частности, в монографии Ю. А. Болдырева [18]. По мнению автора, художественная литература «...прежде всего, выполняла идеологические задачи. Она могла существовать в таком виде только внутри сложившейся системы контроля и управления. Творческие деятели создавали в основном произведения невысокого художественного уровня, но соответствующие потребностям военного времени и в силу этого они были способны оказывать на советских людей позитивное воздействие, формировать у них определенную картину восприятия действительности, способную служить патриотическому воспитанию» [19]. Иначе тема раскрывается в монографии Ф. У. Айбазовой [20]. Она пришла к выводу, что литература Северного Кавказа в своем развитии прошла несколько этапов. На первом (июнь – конец 1941 г.) в «написанных наскоро по выражению чувств и мыслей стихах отмечаются гнев и ненависть к врагу, горячий призыв к мужеству и стойкости, клятва верности Родине… Стихи эти сильны своим пафосом, оптимизмом, но авторы еще были далеки от реалистического изображения военной действительности, до конца не представляли всей грандиозности и сложно- сти событий… Художественная конкретизация образа врага часто подменялась голым обличением и проклятиями». В 1942 г. литература, как пишет автор, «стала более подвижной, содержательной, качественно обогатилась событиями, имевшими место как на фронте, так и в тылу». На втором этапе (1943–1945 гг.) мобилизующая сила литературы неизмеримо возросла. Стали более разнообразными жанры и формы литературного творчества, писатели, поэты, драматурги глубже проникали в характер духовного мира воюющего народа, все больше появлялось произведений, которым было свойственно широкое художественное обобщение. Однако, как подчеркивает Ф. У. Айбазова, «условия существования и развития северокавказских литератур были неравными. В 1943–1945 гг. чеченские, карачаевские, балкарские литераторы были переселены в Среднюю Азию и Казахстан. Для писателей Адыгеи, Черкесии, Кабарды, подвергшихся временной оккупации… единственную возможность публикации новых произведений в определенный период представляла фронтовая печать». Однако военное время стало для всех северокавказских литератур крупной вехой, а «приобретенный опыт был коллективным, общим, сближающим» [21].
В региональных исследованиях нередко рассматривались те или иные формы организации литературного творчества в годы войны. Основное внимание, естественно, уделялось писательским организациям. В. В. Цитко [22] выделил ряд общих черт, характерных для деятельности отделений Союза советских писателей, действовавших в тыловых регионах. Во-первых, они являлись своеобразными центрами притяжения литературных сил того или иного края. Во-вторых, все подобные объединения претерпели существенные изменения количественного и качественного характера. Так, с одной стороны, большинство писательских организаций вышли из войны с необратимыми утратами, с другой – «тесное сотрудничество и общение со столичными литераторами дало региональным коллегам бесценный опыт и знания для профессионального подхода к тематике произведений». В-третьих, деятельность творческих объединений литераторов происходила в тесной связи с партийными и государственными органами власти, а также с другими творческими объединениями театральных деятелей, художников, композиторов. В-четвертых, следует учитывать, что писательские организации сыграли важную роль в материально-бытовом обеспечении писателей и их семей в годы войны. В-пятых, военная эпоха изменила не только условия существования литературной интеллигенции, но и привычные формы и методы работы, предельно расширила сферу их творческой и в особенности общественнополитической деятельности.
В конце XX – начале XXI в. отечественная историография проблемы пополнилась новыми, разнообразными по жанру публикациями – архивными, мемуарными и эпистолярными [23]. Одновременно с публикацией новых документальных материалов росло количество исторических и литературоведческих исследований, которые содержали новые сведения о жизни и судьбе выдающихся писателей и поэтов, выводы и наблюдения о развитии их творчества в военную эпоху, дополняющие представления о литературном процессе. Речь идет о работах, посвященных анализу наследия Н. А. Асеева, А. А. Ахматовой, П. Ф. Бажова, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссмана, М. Джалиля, Л. М. Леонова, А. П. Платонова, С. Н. Сергеева-Ценского, К. М. Симонова, А. Т. Твардовского, М. А. Шолохова и некоторых других [24]. Выделяется статья В. А. Твардовской [25], в которой охарактеризовано состояние источниковой базы, выявлены исторические и литературные аспекты анализа творческой лаборатории выдающегося русского поэта А. Т. Твардовского.
В рассматриваемый период историографии особое внимание уделялось позициям тех писателей и поэтов, кто до войны не разделял официальную политику советской власти [26]. Например, М. В. Строганов подчеркнул специфику ахматовского трагизма в истолковании войны, его нетрадиционность. Военные стихи Ахматовой, по мнению автора, свидетельствуют об историзме ее сознания – каждый эпизод войны рассматривался поэтом «с позиций вечности», высоких культурных ценностей, «вне сиюминутных требований и установок». Своеобразие ахматовского историзма состоит в том, что она «видела в истории не цепь последовательно развивающихся событий, а взаимно отражающиеся друг в друге, повторяющие друг друга отрезки времени» (имеются в виду две мировые войны). А. А. Ахматова, как подчеркнул М. В. Строганов, «была верна не отвлеченному понятию Родины, но тому народу, с которым она делила свою жизнь». При этом «интересы народа и интересы государства совпали в той войне…». Как полагает автор, «комплекс идей, который воплотился в военной лирике Ахматовой… не был понят ни после войны, ни сразу же после нее – даже наиболее близкими ей современниками» [27].
В научный оборот были введены новые текстологические данные, которые способствовали выявлению малоизвестных граней творчества отдельных писателей и поэтов и привели к определенной переоценке устоявшихся мнений. Примером может служить попытка нового прочтения военного эпоса Андрея Платонова [28]. И. А. Спиридонова создала оригинальную работу, в которой проанализировала взаимодействие категорий трагического, героического, утопического, христианского в произведениях писателя, выявила особенности образной системы платоновских рассказов 1941–1945 гг. Авторская точка зрения раскрывается в полемике со значительной критической литературой, посвященной творчеству А. П. Платонова. Это позволило ей четко обозначить «разноголосицу», существующую в платоноведении по поводу военной прозы писателя, обосновать собственную позицию, заключающуюся в том, чтобы «прочитать Платонова с помощью Платонова» [29].
На рубеже XX–XXI вв. в рамках «новой социальной истории» предметом специального изучения впервые стала повседневная жизнь советских писателей периода Великой Отечественной войны. В уже упоминавшихся исследованиях В. А. Антипиной [30] проблема была рассмотрена на примере жизни и творчества самой большой группы советских писателей – московских и ленинградских литераторов накануне и в годы войны. Впервые в отечественной историографии предметом глубокого анализа явились различные модели поведения советских литераторов, которые сформировались под воздействием социокультурной среды, а также экстремальных условий войны, эвакуации, блокады и т. д. Особенности источниковой базы (опора на источники личного происхождения) позволили сопоставить представления советских писателей о задачах государственной социально-экономической политики по отношению к их повседневной жизни и ее реальные направления. Содержание диссертации и монографии автора свидетельствует о том, что ей также удалось внести вклад в решение некоторых дискуссионных и недостаточно изученных вопросов, касающихся развития литературы в годы войны. К ним относятся эвакуация и реэвакуация писателей и членов их семей, роль ССП и его руководства в период проведения эвакуации, организация работы Правления Союза советских писателей, функционирование системы детских учреждений ССП и другие. В целом В. А. Антипина воссоздала убедительную картину уклада жизни «столичных» литераторов в предвоенный и военный периоды, который позволял или не позволял им реализовать социальное предназначение. Рассмотренные автором явления, такие как противоречивое положение писателей в советском обществе, специфика их бытового существования, выявленные глубинные противоречия, в том числе морально-этического характера, конформистская линия поведения значительного числа литераторов наряду с высочайшим творческим взлетом в военные годы и многие другие, безусловно, представляют научный интерес и перспективу.
Из отраслевых работ по теме отметим исследования филологов [31], в том числе диссертации, посвященные изучению жанрового своеобразия печати, поэзии и прозы [32].
В 1990 – начале 2000-х гг. ученые-гуманитарии вновь вернулись к анализу прозы эпохи войны. Л. В. Иванова главной особенностью лучших произведений считает «преумножение духовно-нравственных традиций литературы классики и предшествующих десятилетий в создании героических и трагических характеров, обогащение самой идеи народности… накопление опыта использования разных жанрово-композиционных структур романов, повестей, рассказов, обновление образно-стилистического языка прозы». Она подчеркнула: «Важно ответить на вопрос: мешало ли художникам военных лет в осмыслении множества трагических ситуаций известная нормативность, более того – строгий социальный заказ?» Для автора ответ очевиден, она уверена в том, что обстоятельства времени, нормы и условности эстетики 1940-х гг. не позволяли ли- тераторам «говорить полной правды, добиваться полноты историзма», но при этом не следует забывать «о многообразии путей углубления историзма военной прозы, ее человековедения, путей постижения целостного изображения эпохи», глубинной взаимосвязи художника с народным сознанием. Анализ произведений военной поры привел ее к важному выводу о том, что писателям удалось значительно обогатить и наполнить понятие «героика повседневности», «ибо дистанция между повседневной жизнью и исключительными обстоятельствами или исчезала совсем, или резко сокращалась, что приводило в ряде случаев к стиранию границ между человеком обычным и личностью, отвечающей нашим представлением о герое-борце». Понятие героического «служило основой не только категории трагического, но и прекрасного», а наряду со стойкостью, выносливостью характера человека писатели не забывали и о мотиве страдания [33]. Все это в совокупности, по мнению автора, позволило писателям того времени донести до нас «и невыносимый накал трагедийных конфликтов, и светлое озарение», кристальную ясность и нравственную чистоту человека, совершающего подвиг. И самое, пожалуй, главное: «Человек в лучших книгах о войне изображен неоднозначно, как не было подобной однозначности и в самой фронтовой действительности» [34].
Особой, но недостаточно изученной страницей отечественной культуры явилась детская и юношеская литература 1941–1945 гг. [35]. Интересны обобщающие выводы и наблюдения Г. Г. Елизаветиной. Она обратила внимание: при анализе данной литературы среди целого комплекса факторов, влиявших на создание произведений для детей, прежде всего следует иметь в виду политический, который был тесно связан с художественными и воспитательными функциями детской литературы. Также необходимо помнить, что в военные годы далеко не всегда можно было отделить «детское» от «взрослого». Об этом, по мнению автора, свидетельствуют произведения С. Маршака, С. Михалкова, Л. Кассиля и других писателей и поэтов. Исследователь оспорила некоторые утверждения современной историографии – об отсутствии эстетических поисков в литературных произведениях, обвинение детской литературы рассматриваемого периода в
«фальши» и другие конъюнктурные заявления. Она отметила: естественно, в то время «создавались произведения разного художественного уровня; однако в целом представляется несомненным, что именно творческие поиски времен Великой Отечественной войны… привели писателей к эстетическим открытиям, связанные с изображением – и изображением правдивым – внутреннего мира ребенка, потому что каким бы богатым ни был в нашей стране художественный опыт изображения войн… литература никогда еще не сталкивалась с таким явлением, которое требовало эстетического постижения и оформления, как деформация души ребенка под гнетом непосильных для него обстоятельств военного лихолетья». Несмотря на то что для детской и юношеской литературы военной поры были характерны особые, главным образом публицистические принципы подачи материала, почти полное отсутствие новых имен молодых авторов, и в этих «экстремальных условиях были созданы произведения, которые стали неотъемлемой частью истории не только детской литературы, но и литературы вообще. Они органично вошли в нее, потому что были такой же попыткой национального самосознания и художественного освоения жизни народа в годы войны…» [36].
В начале XXI столетия некоторые ученые попытались, отказавшись от упрощенных политизированных оценок, объективно изучить феномен литературной критики военного периода. Однако современным авторам, как подметил В. А. Чалмаев, нелегко восстановить «реальные контуры идеологического бытия, взаимосвязи действительности и литературного процесса». Он полагает, что нельзя сводить роль и задачи критики к особому виду публицистики, которая обслуживает нужды режима и способствует идеологическому оформлению того или иного «социального заказа». Серьезные возражения с его стороны вызвали также высказывания некоторых ученых «о кошмарном по тесноте, узости мыслительного “текстового поля”, в автономных рамках которого якобы развивалась вся культура 1930–1950-х гг.» [37]. Излагая свое понимание этих неоднозначно трактуемых вопросов, автор обратил внимание читателей на забытые сегодняшним литературоведением, на первый взгляд, парадоксальные мысли И. Эренбурга, который писал во время войны, «что многообразие и свободы творческих дерзаний могут быть достигнуты и через предельное сплочение, через единение, а не только через пресловутую мелкую пестроту бойкого «плюрализма», искусственную “дискуссионность”…». По мнению В. А. Чалмаева, реальная «сложность всего бытия литературной критики… заключалась вовсе не в ее раздвоенности, метания между так называемой официозной литературой и “литературой сопротивления”, не между “народом”и “режимом”, а в тех бесчисленных “перегрузках”, которые были созданы и резкой сменой духовно-нравственных ориентиров всей страны и ее культуры уже в 1941 году, и новой действительностью». Автор выделил ряд особых, неповторимых черт литературной критики военных лет; отметил, что она нередко отставала от поэзии и прозы в осмыслении целого ряда проблем, поставленных войной [38]; подчеркнул сложность и противоречивость пройденного ею пути, отмеченного поисками новых ориентиров, а в некоторых случаях – и отходом от догматичных взглядов.
В отдельную группу мы выделили публикации, посвященные устному народному творчеству [39]. На рубеже XX–XXI вв. в отечественной историографии наиболее актуальной стала проблема его типологии. Выделив традиционный и новый фольклор, бытовавший на фронте и в прифронтовой полосе, в зоне оккупации и в плену, в тылу и на освобожденной территории, Е. А. Самоделова подчеркнула, что военный фольклор представляет интерес в различных ракурсах. Он является всенародным и интернациональным, вследствие чего произошло «смешение и последующее нивелирование региональных особенностей, соединение разных типов народной культуры – деревенской и городской, совмещение общечеловеческого и узкоцехового мировоззрения – крестьянского и пролетарского, солдатского и матросского и т. д.». Военный фольклор отражает специфическую картину мира, в котором нет места поражению. При этом следует помнить: любые проявления «упаднического фольклора» пресекались военной цензурой, как нашей, так и противной стороны. Он характеризовался избирательностью, включал в себя только те жанры, которые отвечали внутренним потребностям народа. Фольклор Великой Отечественной войны – «это единственный из разделов устного народного творчества, выделяемых по хронологическому принципу», который «активизировал редкие для…» него «функции хроникальности и исторического бытописания, стимулирования воинской отваги и трудовой доблести в тылу…». Акценты в народной словесности менялись в зависимости от успехов и неудач на советско-германском фронте [40].
Автор рассмотрела характерные особенности и приемы поэтики устного народного творчества и в заключение отметила, что, унаследовав «определенные черты военного фольклора предыдущих эпох, фольклор Великой Отечественной войны… представляет собой уникальный многожанровый комплекс…». Судьба жанровых разновидностей военного фольклора сложилась по-разному. Новые жанры – батальные лозунги и боевые кличи, партизанские клятвы, солдатские сказы и многие другие – прекращают действовать с окончанием войны. Они остаются в памяти народа, «но уже не оказываются “порождающим” поэтико-жанровым явлением. Однако феномен фронтового фольклора возникает вновь и актуализируется в последующие периоды ведения боевых действий…» [41].
Заслуживают внимания работы лингвистов, посвященные изучению изменений в лексике, фразеологии, словообразовании, рассматривающие процесс отражения военно-политических событий в языке военной эпохи [42]. К сожалению, как отметила Г. В. Маркелова, язык «периода Великой Отечественной войны… привлекает к себе внимание лингвистов преимущественно в юбилейные годы». А после того, как началась переоценка советского прошлого, «исследования по данной тематике практически прекратились». Но главное заключается в том, что язык военного времени на сегодняшний день «изучен крайне односторонне: почти все исследования посвящены лексике и отчасти словообразованию, имеются некоторые попутные замечания общего характера о фразеологии и синтаксисе; в стилистическом плане рассматривалось своеобразие газетно-публицистических и художественных текстов, созданных в годы войны». Таким образом, наши представления о языке, по выражению автора, «достаточно фрагментарны». Неизученными остаются синтаксический, текстовой и другие его аспекты. Радиотексты и выступления государственных, партийных, военных руководителей должны быть исследованы «с точки зрения эффективности воздействия текстов не только на читателя, но и на слушателя военной поры». Г. В. Маркелова подчеркнула: несмотря на то что Великая Отечественная война – это сравнительно небольшой хронологический отрезок времени, «в историческом развитии русского литературного языка данный период является весьма значимым и, безусловно, заслуживает пристального изучения» [43].
В центре внимания лингвистики, как отметила З. К. Хачецукова, также находится изучение специфики языковых интерпретаций советского официального дискурса в 1941– 1945 гг. Данная проблема непосредственно взаимосвязана с анализом «человеческого фактора» в языке. Автор подчеркнула: в современной социокультурной ситуации особенно важно обращение к патриотическому дискурсу, например к изучению уникальных текстовых материалов газеты «Правда» периода войны, которые демонстрируют «лингвистическую и риторическую специфику языкового сопротивления захватчикам на государственном уровне», воздействуют на «психологические механизмы всенарод- ной мобилизации». Лингвориторические особенности советского дискурса, который автор понимает как «особое употребление языка в особых условиях» [44], рассмотрены ею в нескольких публикациях [45]. В рамках данной парадигмы выявлены специфика газетной публицистики, дана характеристика советского официального дискурса в экстремальных условиях, прослежена трансформация его эмоциональной тональности на различных этапах Великой Отечественной войны.
Таким образом, существующая к настоящему времени историография литературного процесса периода Великой Отечественной войны чрезвычайно многообразна и противоречива. Одним из наиболее сложных вопросов является проблема методологии исторических исследований. Разноголосица мнений по тому или иному сюжету весьма велика, и говорить о каких-то общих критериях оценки места и роли литературы в истории минувшей войны не приходится. В то же время современная историческая и литературоведческая мысль отмечены интересными научными поисками, которые в ближайшие годы будут, несомненно, продолжены.
Список литературы Литература периода Великой Отечественной войны в современной историографии
- Пинегина Л.А. Художественная культура как фактор Великой Победы 1941-1945. М., 1997. С. 234-258.
- Пилипюк Е.Л. «Но сияют слова, излучение их не померкло…». Русская классическая литература в годы Великой Отечественной войны. -Мичуринск: МГПИ, 2005.
- Идет война народная…»: Литература Великой Отечественной войны (1941-1945). -М.: ИМЛИ РАН, 2005.
- Баранов В.И. Писатели и война//Война и общество, 1941-1945: В 2-х кн. -М., 2004. Кн. 2. С. 129-161.
- Никитина Е.Э. Национальный менталитет и литература о Великой Отечественной войне//Mass media: Действительность. Литература. Тверь, 2001. Вып. 2. С. 24-26.
- Информация наркома НКГБ В.Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Жданову о политических настроениях и высказываниях советских писателей, 31 окт. 1944 г./публ. Р. Усиков, Р. Шевчук//Родина. 1992. № 1. С. 92.
- "Литературный фронт". История политической цензуры. 1932-1946 гг.: сб. докум./сост. Д.Л. Бабиченко. М.: Энциклопедия российских деревень, 1994.
- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) -ВКП (б), ВЧК -ОГПУ -НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг./сост. А.Н. Артизов, О.В. Наумов. М.: Демократия, 1999.
- Большая цензура: писатели и журналисты в стране Советов 1917-1956/под общ. ред. А.Н. Яковлева; сост. Л.В. Максименков. М.: МФД: Материк, 2005.
- Трудные вопросы истории. -М.: Политиздат, 1991.
- Базаров Б.В. Общественно-политическая жизнь 1920-1950-х годов и развитие литературы и искусства Бурятии. -Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1995.
- Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. -М.: Россия молодая, 1994.
- Сперанский А.В. Тоталитарная культура СССР и Германии 30-40-х: сходства и различия//Урал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -Екатеринбург, 1995. С. 101-108.
- Художественная интеллигенция и власть в годы Великой Отечественной войны: опыт взаимодействия//Интеллигенция России в истории ХХ века: неоконченные споры. К 90-летию сборника "Вехи". Екатеринбург, 1998. С. 253-257.
- Галимуллина Н.М. Художественная литература 1941-1945 гг.: отражение идеологии или реалий военного времени//Художественная литература как историко-психологический источник. -СПб., 2004. С. 423-426.
- Лукьянин В.П. Структурирование литературной жизни Урала под влиянием организационных форм, привнесенных партийными и государственными органами//Литература Урала: история и современность. Екатеринбург, 2006. С. 38-48.
- Бабиченко Д.Л. ЦК ВКП (б) и советская литература: проблемы политического влияния и руководства. 1939-1946. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук в виде науч. докл. -М., 1995.
- Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей в 1930-х -начале 1950-х гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. -М., 2005.
- Сперанский А.В. В горниле испытаний: культура Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). -Екатеринбург, 1996. С. 146, 154.
- Бахолдин В. Литературные четверги в военном Омске//Иртыш. -Омск, 1993. № 2. С. 272-290.
- Копырин Н.З. Тяжелое испытание: (якутская поэзия периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия). -Якутск: Якут. НЦ СО РАН, 1994.
- Антюхин Г.В. "Не пожалевши молодость свою...". Лит. былое, 1941-1945. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995.
- Денисевич М.Н., Сперанский А.В. Литература Урала военной пары: парадоксы развития//Урал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -Екатеринбург, 1995. С. 290-293.
- Айбазова Ф.У. Развитие литературы и искусства народов Северного Кавказа на втором и заключительном этапах Великой Отечественной войны//Вестн./Карачаево-Черкесский гос. пед. ун-т. -Карачаевск, 1998. № 1. С. 20-28.
- Соломко Е.А. Писатели Адыгеи в годы Великой Отечественной войны//Мы победу приближали, как могли. -М., 2003. С. 474-479.
- Башарина З.К. Великая Отечественная война в литературе народов Якутии. -Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2004.
- Пахорукова В.В. История Коми-пермяцкой литературы. Т. 1. Проза. -Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2004.
- Черепов В.А. П.П. Бажов и художественная культура Свердловска 1941-1945 годов//Урал. 2004. № 1. С. 114-129.
- Сарбашева А.М. Особенности развития балкарской драматургии в годы Великой Отечественной войны//Фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. -Карачаевск, 2005. С. 84-89.
- Ахматова М.С., Нахушева З.А. Жанровое и тематическое разнообразие Кабардино-Балкарской военной поэзии (1941-1945 годы)//Вклад народов Северного Кавказа в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -Элиста, 2005. С. 145-146.
- Полторак С.Н. Неопубликованный вариант поэмы Б.Д. Четверикова «Ленинград» как исторический источник (По материалам семейного архива)//60-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается. -Волхов, 2005. С. 60-65.
- Клочкова Ю.В. Литературный образ Свердловска в произведениях военных лет//Литература Урала: история и современность. -Екатеринбург, 2006. С. 128-135.
- Болдырев Ю.А. Литература и искусство Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Дисс. канд. ист. наук. -Краснодар, 1993.
- Айбазова Ф.У. Развитие духовной культуры народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). -СПб., 2004. С. 49-68, 116-130.
- Цитко В.В. Деятельность писательской организации г. Свердловска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)//Уральские Бирюковские чтения. Вып. 3. Из истории российской интеллигенции. -Челябинск, 2005. С. 247-252.
- Письма М.А. Шолохова И.В. Сталину (1937-1950)//Источник. -М., 1993. № 4. С. 4-19.
- Художник и общество (неопубликованные дневники К. Федина 40-х годов)/публ. Н.К. Федина, Н.А. Сомова, прим. Н.А. Сомова//Рус. литература. 1998. № 1. С. 119-129.
- Платонов А. Записные книжки: материалы к биографии/публ. М.А. Платонова; сост., подгот. текста, предисл. и биогр. Н.В. Корниенко. М., 2000.
- «Эта книга тоже для фронта!»: письма писателей В.И. Костылева и А.Н. Толстого. 1941 г./публ. подгот. Г.И. Науменко, Н.Е. Хитрина//Исторический архив. 2000. № 2. С. 205-209.
- Вишневский В.В. Ленинград: Дневники военных лет. Кн. 1: 2 ноября 1941 года -31 декабря 1942 года; Кн. 2: 1 января 1943 года -28 сентября 1944 года; 1 -9 мая 1945 года. -М.: Воениздат, 2002.
- Творчество и судьба Александра Фадеева. Статьи, эссе, воспоминания. Архивные материалы. Страницы летописи. -М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- Тимофеев Л.И. Дневник военных лет//Знамя. 2002. № 6. С.; 2003. № 12. С.; 2004. № 7. С. 152-161; 2005. № 5. С. 170-181.
- Личное дело. Пришвин Михаил Михайлович: Воспом. современников. Война; Наш дом/сост., вступ. ст., коммент. Л.А. Рязанова и Я.З. Гришина. -СПб.: ООО «Изд-во «Росток», 2005.
- Твардовский А.Т. «Я в свою ходил атаку…»: Дневники. Письма, 1941-1945. -М.: Вагриус, 2005
- Неизвестный Асеев (Вступит. ст., публ. Д.Л. Бабиченко)//Вопросы литературы. 1991. № 4. С. 133-157.
- Королева И.А. Военная публицистика Василия Гроссмана//Великая Отечественная война и современность. Владимир, 1995. С. 118-120.
- Войны России ХХ века в изображении М.А. Шолохова/отв. ред. Н.И. Глушков. -Ростов-на-Дону, 1996. С. 107-178.
- Перхин В.В. А.П. Платонов и А.А. Фадеев: из истории взаимоотношений (1943-1951)//Рус. литература. 2001. № 2. С. 175-189.
- Ильин В.В. Смоленщина «огненных лет» в поэзии А.Т. Твардовского//Штудии -3. Смоленск, 2002. С. 77-83.
- Чудакова М. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня…» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени//НЛО. -М., 2002. № 58. С. 223-259.
- Творчество П.П. Бажова в меняющемся мире: матер. межвуз. науч. конф. -Екатеринбург: Объединен. музей писателей Урала, 2004.
- Щелокова Л.И. Образ Москвы в военной публицистике И.Г. Эренбурга//Москва и «московский текст» в русской литературе и фольклоре. -М., 2004. С. 171-189.
- Аннинский Л. Ольга Берггольц: «Я… ленинградская вдова»//Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 155-166.
- Корочкова О.Ю. «В героизме нашем нет ни надрыва, ни позы,-он прост и естествен, он в духе нашего народа» (публицистическое творчество писателя С.Н. Сергеева-Ценского в период Великой Отечественной войны)//Тыл -фронту! материалы междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Великой Победы. редкол.: гл. ред. - Шмакова И.П. - Челябинск, 2005. С. 151-154
- Спиридонова И.А. «Внутри войны» (поэтика военных рассказов А. Платонова). -Петрозаводск: ПетрГУ, 2005
- Строганов М.В. «Час мужества» Анны Ахматовой//Человек и война в русской литературе XIX-XX веков. -Тверь, 2005. С. 91-137.
- Подвиг и духовное наследие Муссы Джалиля в системе российских ценностей: сб. матер. регион. конф. -Оренбург: ОГАУ, 2006.
- «По праву памяти живой»: первые Твардовские чтения, 20-21 декабря 2005 года/ред. В.В. Ильин. -Смоленск: Изд-во «Маджента», 2006.
- Охотникова С.Р. Принципы композиционной структуры элегии периода Великой отечественной войны (1941-1945)//Анализ художественного текста: Проблемы и перспективы. -Йошкар-Ола, 1991. С. 99-104.
- Кожинов В. Поэзия 1941-1945 годов. Современное прочтение//Литература в шк. 2000. № 3. С. 41-55.
- Макарова З.И. Русская поэма в годы Великой Отечественной войны. -М.: Прометей; Элиста: АПП «Джангар», 2000.
- Морохин Н.В. Сатира в русской советской художественной публицистике военных лет (1941-1945 годы). -Саров: Альфа, 2001.
- Брыкина С.П. Своеобразие жанра баллады в поэзии периода Великой Отечественной войны: (Баллады Семена Гудзенко)//Русское литературоведение в новом тысячелетии. -М., 2003. Т. 2. С. 23-27.
- Зимохин В.В. Поэзия Семена Гудзенко в годы Великой Отечественной войны//Творческая индивидуальность писателя: традиция и новаторство. -Элиста, 2003. С. 168-173.
- Зайцева Н.А. Великая Отечественная война в поэзии//Русская словесность. -М., 2005. № 3. С. 40-45.
- Снигирева Т.А. А.Т. Твардовский. Поэт и его эпоха. -Воронеж, 1997.
- Макарова З.И. Русская поэма в годы Великой Отечественной войны. -М., 1998.
- Охотникова С.Р. Элегия в русской поэзии периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). -Казань, 1996.
- Селиванов В.М. Эпичность художественной прозы М. Шолохова 1940-1950-х годов о Великой Отечественной войне. -М., 1999.
- Потрепалова С.М. Художественный очерк на страницах газеты «Красная Звезда» в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). -Тюмень, 2000.
- Дробышевская Н.Н. Художественная публицистика советских писателей в русской периодике 1941-1945 гг. -М., 2003.
- Шалдина Р.В. Творчество А.Т. Твардовского: природа смеха. -Екатеринбург, 2003.
- Варисова П.Г. Лирика народов Дагестана периода Великой Отечественной войны: эволюция жанровой и художественной системы. -Махачкала, 2005.
- Мухамедова Ф.Х. Дагестанская детская литература. Историко-литературный очерк. -Махачкала, 2001. С. 63-78.
- Сазонова Г.М. Детская литература в годы войны//Война. Народ. Победа. -Пенза, 2001. С. 66-69.
- Фатеев А.В. Сталинизм и детская литература. -М.: МАКС Пресс, 2005.
- Фатеев А.В. Сталинизм и детская литература в политике номенклатуры СССР (1930-е -1950-е гг.). -М.: МАКС Пресс, 2007.
- Лиджиев М.А. Фольклорные традиции в калмыцкой поэзии в годы Великой Отечественной войны//Вклад народов Северного Кавказа в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -Элиста, 2005. С. 142-144.
- Фольклор Великой отечественной войны: сб. науч. тр./под. Ред. О.Е. Лебедевой и М.В. Строганова. -Тверь: Золотая буква, 2005.
- Ворожбитова А.А. Лингвориторические ориентиры анализа публицистики Великой Отечественной войны//Языковое образование и воспитание языковой личности (в школе и вузе). -СПб., 1995. С. 40-42.
- Ворожбитова А.А. «Официальный советский язык» периода Великой Отечественной войны: лингвориторическая интерпретация//Теоретическая и прикладная лингвистика. -Воронеж, 2000. Вып. 2. С. 21-42.
- Бельчиков Ю.А. Из наблюдений над русским литературным языком эпохи Великой отечественной войны//Философские науки. -М., 2000. № 6. С. 46-55.
- Маркелова Г.В. Язык Великой Отечественной войны: результаты и перспективы изучения//Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. -Тверь, 2005. С. 3, 8.
- Хачецукова З.К. Лингвориторические параметры советского официального дискурса периода Великой Отечественной войны (на материале передовых статей газета «Правда». Автореф. дисс. канд. филол. наук. -Краснодар, 2007. С. 3, 4.
- Хачецукова З.К. Экспрессия официального советского дискурса периода Великой Отечественной войны: лексический уровень//Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. -Сочи, 2004. Ч. 2. С. 156-159.
- Хачецукова З.К. Базовые риторические эмоции в языке газетных передовиц периода Великой Отечественной войны//Изв. высш. уч. заведений. Сев.-Кавказ. Регион. Сер.: Общественные науки. Спецвып. 2006. С. 101-106.